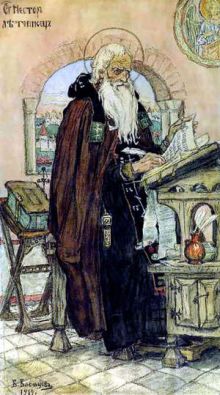Исторические знания (впрочем, саму историю тоже) «делают» и добывают никоим образом не манекены, не бестелесные символы — воплощение абстрактных доктрин или идеологических систем, не бессловесные исполнители едино правильных политических директив «сверху» — а личности, реальные, неповторимые, живые люди. И потому от мудрости, честности, если угодно, интеллектуального мужества ученых-историков зависит очень и очень многое (возможно, даже не меньше, чем от объективного состояния общества и его сознания).
Если же говорить об украинской исторической науке, то речь, очевидно, стоит вести, в первую очередь, о ее штабе, ее «флагмане» (говоря военным языком), ее наиболее мощной ячейке — Институте истории Украины Национальной Академии наук Украины. Отдавая должное роли вузовской науки (а вообще здесь вряд ли целесообразным будет какое-то противопоставление — ведь наука является неделимой), следует, тем не менее, подчеркнуть, что именно академические ученые-историки внесли особый вклад в изучение прошлого нашей Отчизны. И могут по праву гордиться этим. Накануне 75-летнего юбилея с момента создания Института истории Украины (июль 1936 г.) об этом нужно напомнить, как и о страшных, драматических страницах истории этого учреждения.
Как можно охарактеризовать сверхсложный, поистине непростой путь, который прошел институт? Какие проблемы возникают сейчас перед коллективом и как именно их решают? Какими являются перспективы дальнейшего развития исторических знаний в Украине, и как эти знания соотносятся с массовым сознанием? Эти и многие другие вопросы корреспондент «Дня» обсудил в беседе с директором Института истории Украины НАН Украины академиком Валерием СМОЛИЕМ.
— Глубокоуважаемый Валерий Андреевич! 75 лет со дня создания Института истории Украины (собственно, отсчет здесь можно вести от известного постановления ЦК КП(б) от 23 июля 1936 г.) — это очень почтенный, важный рубеж, и теперь, с высоты этих лет, очевидно, лучше можно проанализировать тот путь, который прошел институт, научные и гражданские достижения, потери, просчеты, большие свершения... Как бы вы в целом оценили этот путь?
— Необходимо отметить, что в разные времена (и трагические, и во время «оттепели», и в годы так называемого застоя, и в годы более благоприятные) Институт всегда занимал главное место в украинском историографическом процессе, процессе осмысления и проработки массива знаний по национальной истории. То есть он находился в основном «русле» этого жизненно важного для развития нашей отрасли знаний историографического потока. Я на этом хотел бы особо заострить внимание.
К истории Института можно подойти и сугубо хронологически, по-научному, распределяя эти 75 лет на отдельные часовые периоды; можно применить и сугубо цивилизационный подход, сосредоточившись на изменениях в проблемном поле, тех тематических срезах, которые разрабатывали сотрудники. Конечно, в любом случае я неоднозначно оцениваю прошлое нашего учреждения, и это вполне понятно, если опираться на реальные факты.
В истории коллектива, который я удостоен чести возглавлять, были (мягко говоря) и «темные» страницы. За один год (1937) был физически уничтожен практически весь кадровый состав Института, а его первый директор, Арташес Сараджев, был расстрелян. Я уже не говорю о вещах, связанных с прессом идеологии, цензуры и тому подобное. Очень тяжелым периодом для историков были годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Никогда нельзя забывать — и нам, и будущим историкам — печально известное постановление ЦК КП(б) от 29 августа 1947 года, разработанное по настоянию Кагановича, под названием: «О политических ошибках и неудовлетворительной работе Института истории Украины Академии наук УССР».
В этом документе ведущий коллектив украинских историков-исследователей прямо обвинялся в преднамеренном отходе от принципа партийности, «возрождении реакционных выдумок украинских националистических историков», проповеди ошибочных подходов к вопросам освещения прошлого и современного украинского народа, негативном влиянии на преподавание истории Украины в вузах и тому подобное. Достаточно прочесть такой абзац из постановления: «Сотрудники Института истории Украины позаимствовали у буржуазно-националистических историков Грушевского, Антоновича и других основные положения, которые искажают в угоду национализму ход исторического процесса. Это, в сущности, привело к возрождению в той или иной степени буржуазно-националистических установок относительно вопросов истории Украины, разоблаченных партией как враждебных народу Украины». Давайте вдумаемся: 1947 год, совсем недавно завершилась страшная война, люди (историки в том числе) имеют надежды на новую, более свободную жизнь — и тут такое постановление! Его появление, бесспорно, стало следствием, кроме всего прочего, и того идеологического «водораздела» военных времен.
Еще один показательный пример — 1950-е годы. Именно тогда принимались хорошо известные тезисы ЦК КПСС о 300-летии «воссоединения» Украины с Россией. И эти тезисы были немедленно — без каких-либо дискуссий — положены как оценочная основа всех без исключения научных трудов. То есть партийный аппарат, по сути, перебирал на себя функции работников-историков и просто отдавал приказ, как надо воспринимать и интерпретировать те или иные события и факты. Понятно, что такие вещи крайне негативно влияли на атмосферу научного исследования и состояние научного знания.
Дальше, в 70-ые годы фамилии уважаемых сотрудников Института (назову Елену Апанович, Елену Компан, Федора Шевченко) тоже упоминались — в контексте «разоблачения национализма», конечно, в партийных документах, где давалась оценка состояния дел в исторической науке.
И таких примеров множество. Поэтому я рассматриваю недавно принятое постановление Верховной Рады Украины о праздновании 75-й годовщины создания Института истории Украины НАН Украины как, возможно, первый за годы независимости «реабилитационный» документ относительно украинской исторической науки и всего периода тяжелого преследования ее лучших представителей в прошлом. Я считаю, что признание законодательной ветвью власти нынешних заслуг Института является очень важным и предостережением, чтобы подобное не повторилось в будущем.
— Но наряду с тяжелым грузом тоталитаризма, который шесть десятилетий давил на Институт, были и достижения — вопреки всему? Ради объективности и об этом необходимо говорить.
— Это не дискуссионный вопрос. В учреждении работали выдающиеся ученые, которые существенно обогатили исторические знания в разных его отраслях, сферах и периодах. И отрицать этого нельзя и нет необходимости. Впервые были созданы синтетические работы — от «Очерков истории Украины» до многотомной «Истории УССР», изданы десятки и сотни содержательных документальных сборников, исследован целый ряд очень важных тем. Всего один пример: во времена хрущевской «оттепели» на страницах «Украинского исторического журнала» началась очень интересная дискуссия об украинской государственности (это в 60-е годы!); сотрудники института активно участвовали в конференциях в Москве, посвященных вопросам цивилизационного и формационного развития. Тогда же появилась статья Ф. П. Шевченко «Почему Михаил Грушевский вернулся на Украину», которая нарушала устоявшийся догматизм, историки стремились к объективному исследованию проблем казачества, в частности, деятельности Богдана Хмельницкого. Была начата большая работа над историческим атласом, большой проблемой относительно разных социальных групп и т. д.
То есть, подводя итог, стоит сказать: нельзя одномерно оценивать 75 лет работы института. Нельзя потому, что в душе ученых боролись совесть историка и чувство партийной дисциплины, объективность исследователя и субъективизм принадлежности к идеологической сфере...
— Валерий Андреевич! Мы говорили о пути, пройденном вашим учреждением. Однако хотелось бы сформулировать вопрос шире: возможно ли вообще, чтобы историк-исследователь писал книги, будучи абсолютно свободным от любого политико-идеологического давления, не оглядываясь на то, какая сейчас власть, какой является политическая «погода» в Украине? И как работается сотрудникам вашего института сейчас?
— Это принципиальный вопрос. Если абстрагироваться от каких-либо внешних опосредованных влияний, которые испытывает любой ученый, изучающий ту или иную тему, от собственного субъективизма, от собственных субъективных предпочтений или политических симпатий (а их не обойдешь!), то общая атмосфера в Институте позволяет с уверенностью утверждать: серьезный исследователь не имеет никаких препятствий в высказывании любой провокационной точки зрения (провокационной в хорошем смысле слова, то есть научно мотивированной). Если бы еще только удалось полностью избавиться от подсознательной самоцензуры (это остаточный синдром), которая все еще остается серьезной проблемой... Но все это в значительной степени зависит от самого ученого, а его личные черты могут быть разными. Разной является и структура мышления, и политические убеждения. Сегодня в Институте работают люди самого широкого спектра политических убеждений. И в этом ничего негативного я не вижу, однако при одном обязательном условии: если, конечно, они являются настоящими, критически мыслящими учеными.
— А принципы остаются теми же, что и были: объективность, честность, научная порядочность?
— Безусловно, да. Конечно, реальная жизнь влияет на ситуацию, и так происходит даже на Западе, где ученые-историки (в частности, и небезызвестные) время от времени подписывают воззвания, где призывают власть имущих не вмешиваться в их «творческую лабораторию». Однозначно, что этих вопросов не может избежать и украинское историческое сообщество.
— Как вы оцениваете проблему так называемого переписывания истории, которая часто дебатируется в политикуме и обществе?
— Нас действительно часто упрекают в склонности к «переписыванию истории». Настоящего, беспристрастного исследователя такие упреки не пугают, потому что неизменный, нетленный исторический канон существует разве что в Библии, но ее постулаты постоянно переосмысливаются, обрастают новыми трактовками. Каждое новое поколение историков привносит в процесс историописания не только собственные вкусы и пристрастия, но и переосмысленный в ключе новых вызовов времени коллективный исторический опыт. Поэтому невозможно представить себе написанный в ХХІ веке стоящий исторический труд, который бы оставался на уровне подходов, предложенных в начале ХХ века, не говоря уже о более ранних временах. Когда говорят о верности исторической правде, зафиксированной в источниках, часто забывают, что и сам источник — это продукт воображения человека, далеко не беспристрастного. Он рождается в дискурсе определенной эпохи и отражает не столько реальное событие, сколько отношение к нему рассказчика.
Вместо того чтобы обмениваться колкими обвинениями, историки должны чаще задумываться над простым вопросом: если история переписывается раз в полвека, а то и чаще, то во имя чего это делается? Если для приближения к исторической истине, расширения оценочно-рефлексивного поля, фактических уточнений, то что в этом плохого? Другое дело, когда новую моду в историописании диктует политическая конъюнктура, попытка историка «вписаться» в доминантный в верхах стиль мышления, а то и прямой идеологический заказ. К сожалению, наше историческое сообщество довольно часто склонно думать по логике бинарных оппозиций, в категориях «свое — чужое», «не наше — враждебное». Многим кажется, что из патриотических соображений можно что-то заретушировать, что-то приукрасить, о чем-то промолчать. Очевидно, что такой «исторический пропагандизм» ничего, кроме вреда, дать не может.
— А как вы думаете, совмещаются ли и насколько гармонично такие категории, как патриотизм историка и его объективность? Какой историк является настоящим патриотом?
— Это достаточно непростой вопрос — ведь когда речь заходит об историке-патриоте, то трудно обойтись без упоминания об историке-антипатриоте (и еще много метких синонимов можно здесь подобрать). Однако постараюсь ответить на него просто и коротко. Мне кажется, что правда истории (если она не препарирована идеологически, а настоящая) всегда является патриотической.
— Я думаю, нам не обойти такую щекотливую и сложную тему, как составление учебников. Какие новые аспекты этого вопроса (а мы с вами не первый раз его обсуждаем) вы могли бы отметить?
— Прежде всего, подчеркну: нужно отделять учебное знание от научного, исторического знания. Это разные формы знаний, так же как разными формами знаний является масс-медийное знание и то же научное знание. У нас все это достаточно часто путают. И наибольшая проблема нынешнего учебника — более сложная. Дело не в том, что кто-то стремится освещать исторический процесс с этноцентрических, а кто-то — с антропоцентрических позиций. Проблема заключается в том, что учебник, когда он доходит до школьника или учителя, часто оказывается далеко не интеллектуальным продуктом только одного автора (или соавторов), а продуктом согласования позиций. То есть образуется такая цепочка: сначала автор подает рукопись; дальше происходит рецензирование, даются замечания, которые автор обязан учесть. Затем появляются отзывы специалистов, кое-где весьма критические. И автор торопливо начинает искать выход из этой ситуации, сглаживает все «острые углы», а в результате авторское виденье нивелируется. Вот в этом и заключается одна из наибольших проблем!
Относительно вопроса о создании совместного с россиянами учебника, скажу коротко: этот вопрос является неактуальным сейчас. Зато мы разрабатываем, на мой взгляд, очень интересный совместный научный проект с Институтом всемирной истории РАН: «Общество. Власть. Человек». Это, мне кажется, является перспективным.
— Как бы вы охарактеризовали современный, модерный этап развития исторической науки у нас и на Западе?
— Если лаконично, то это сегментация единственной ранее исторической дисциплины на многие самостоятельные, плодотворные отрасли: социальная история; политическая история; гендерная история; история идей; экономическая история; история повседневности (очень интересное новое направление исследований) и тому подобное. Кроме того, появляются новые методики и методологии исследования. Но следует при этом помнить о том, что тот путь, который прошла западная историческая наука, берет свое начало с конца XVIII в., а первые значительные результаты реально появляются в XIX веке. Мы же думали, что преодолеем этот путь в форсированном темпе — достаточно позаимствовать матрицу и наложить фактаж. Но не всегда простое решение — результативно. Неоспоримо одно — украинская историческая наука неуклонно и уверенно интегрируется в общеевропейский историографический процесс.
— Что вы можете сказать о научной молодежи, которая работает в институте?
— Средний возраст наших научных сотрудников — 40 лет. Это, я думаю, не наихудший показатель. У нас работают молодые люди формата ученого XXI века, не обремененные никакими догмами, коммуникабельные, которые уже стажировались в ведущих западных университетах, и получили там признание. Это — наше будущее, наша гордость. Однако хотелось бы пожелать им больше работать над базой источников, не только отечественной, но и зарубежного происхождения, осваивать, как упоминалось, новые методы исследований, углублять теоретический багаж знаний.
— Последний вопрос. Какой является ваша мечта как историка, что еще не сделано?
— Подготовить и выпустить «Историю Киева», написанную на основе современных позиций, а также «Историю этнических сообществ в Украине». Это сейчас очень важно. И, понятно, приступить к разработке концепции и издания синтетической «Истории Украины» в нескольких томах.