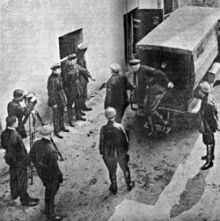Есть весьма устойчивый и распространенный миф, что сталинские репрессии были направлены против гуманитарной интеллигенции: писателей, композиторов, деятелей культуры. Еще арестовывали и расстреливали инженеров, на мнимое вредительство которых списывали авантюризм пятилетних планов. На самом деле плуг репрессий, ударов по ученым захватывал практически всех тех, кто составлял славу советской науки. Не имело значения, что академик Николай Вавилов был мировым авторитетом в области биологии. Диктатор санкционировал арест ученого, а потом лицемерно жаловался его брату, президенту Академии наук и всемирно известному физику Сергею Вавилову, на костоломов из НКВД, которые «не уберегли такого великого человека».
Практически все в сталинском окружении, как и сам вождь, были людьми малообразованными. Самых больших вершин среди них достиг Лаврентий Берия, который три курса проучился в Бакинском политехническом институте. По свидетельству физиков, принимавших участие в советском атомном проекте, он владел основами дифференциального и интегрального исчисления, что позволяло ему хоть как-то понимать своих собеседников. Сталин не продвинулся дальше «Алгебры» Киселева, да и то не в полном объеме.
ПРЕКРАСНАЯ «ЛУЗИТАНИЯ»
Математика — царица всех наук. Как сказал Иммануил Кант, в любой науке столько истины, сколько в ней математики. Но путь во дворец, в котором обитает эта царственная наука, никогда не бывает прямым. Томский гимназист Николай Лузин успевал по всем предметам, кроме математики. Отчаявшиеся родители взяли ему студента-репетитора, и тогда обнаружилось, что все дело в системе преподавания. Как тогда, так и сейчас она воспитывает не понимание и любовь к науке, а ненависть к ней. Зубрежка без понимания не давалась Лузину, а когда репетитор научил его пониманию предмета, проявились совершенно уникальный математические способности. После окончания Московского университета Николай Лузин в 1915 г. защитил диссертацию «Интеграл и тригонометрический ряд». Магистерская диссертация была признана докторской, что тогда было крайне редким случаем.
Выдающийся польский математик Вацлав Серпинский, будущий вице-президент Польской академии наук, в начале Первой мировой войны оказался в России. Как германский подданный, он был интернирован, какое-то время находился в Вятке. Усилиями Лузина Серпинский был переведен в Москву, где ему было предоставлено свободное проживание и созданы условия для научной работы. В математике широко известна кривая «ковер Серпинского» — непрерывная линия, проходящая через каждую точку квадрата, треугольник (салфетка) Серпинского, числа Серпинского. Его и Лузина долгие годы связывала большая дружба, они состояли в активной переписке и научном обмене. Все это советская власть поставит Лузину в вину. Со своей стороны Серпинский много сделал для защиты своего друга.
Вокруг Лузина стал формироваться кружок молодых математиков, почти все они в будущем составили славу не только советской, но и мировой науки. В шутку кружок назвали «Лузитанией». Кстати, Серпинский активно участвовал в его работе и в формировании математической школы Лузина. После возвращения в Польшу в 1918 г. он наладил прямой контакт между математиками Москвы, Варшавы, Кракова и особенно Львова. В польской столице он создал свою научную школу, получившую мировое признание.
Николай Лузин был не только выдающимся математиком, но и прекрасным педагогом. Но главное было в том, что в его квартире на московском Арбате собирался цвет московской математики. Сам Лузин внес огромный вклад в развитие большого раздела математики — теории функций действительного переменного, возникшей в самом конце XIX и начале XX вв.
«Лузитания» формировалась в 1917—1921 гг., но расцвет ее приходится на 1922—1926 гг. Несмотря на творческую атмосферу, на получение весьма впечатляющих результатов в различных областях математики, уже в первые годы внутри «Лузитании» появлялись проблемы. Первый значительный конфликт возник между Лузиным и его учеником Михаилом Суслиным. Достоверно неизвестно, что произошло между учителем и учеником. Позже Лузина обвиняли в том, что он присвоил себе некоторые результаты Суслина. Заметим, что доказательств плагиата нет.
Внутренние противоречия, которые привели к развалу «Лузитании», обострились в 1925—1928 гг. Причины были как объективные, так и субъективные. Иван Петровский, Андрей Тихонов устремились в область дифференциальных уравнений. Александр Хинчин, Андрей Колмогоров стали развивать теорию вероятностей и случайных процессов, ставшие основой кибернетики, Лазарь Люстерник ушел в функциональный анализ и вариационное исчисление. Но главным все-таки был уход Павла Александрова в бурно развивающуюся в тот период топологию.
Появление этого раздела математики многие сравнивают с приходом в классическую геометрию, элементы которой изучаются в школе, алгебраических методов и формирования Декартом новой науки — аналитической геометрии.
Топология (греч. topos — место, logos — слово, учение) отличается от геометрии тем, что изучает свойства тел при возможных их деформациях, но без разрывов. При этом не используются такие фундаментальные геометрические понятия, как расстояние, площадь, длина и т.д. Шар глины и сделанная из него кружка топологически одинаковые объекты. Топология как наука начала складываться в работах великого французского математика, одного из создателей теории относительности Анри Пуанкаре. Произошло это примерно за четверть века до описываемых нами событий. Топология существенно изменила математику XX в., и ее появление было неоднозначно встречено многими математиками, воспитанными на классических принципах, в том числе и мэтром. Между Лузиным и Александровым возникло недопонимание, которое быстро перешло на личные отношения.
К субъективным факторам распада школы следует отнести то, что сам Лузин ряд лет посвятил второй своей большой монографии по теории функций, подолгу жил за границей и оторвался от молодых. Будучи личностью харизматической, притягательной для молодежи, он замечательно чувствовал себя в обстановке тесного круга, организованного как семья, сплотившаяся вокруг обожаемого учителя-отца. Лазарь Люстерник даже посвящал ему стихи:
Пусть твой багаж не очень грузен —
Вперед! В себе уверен будь!
Великий бог — профессор Лузин —
Укажет нам в науке путь!
Обстановку всеобщего поклонения Лузин воспринимал как само собой разумеющуюся. Но птенцы выросли, и некоторые, как Павел Александров, Александр Хинчин, несмотря на молодость, уже обзавелись собственными научными школами. Мэтр воспринимал отход учеников как личную трагедию. К концу 1920-х гг. ухудшились его взаимоотношения с патриархом московской математики, собственным его учителем Дмитрием Егоровым. Это взаимное расхождение особенно ярко проявилось в период выборов в Академию в 1929 г. В итоге Егоров был избран почетным академиком, а Лузин — академиком по разряду «философия».
ДЕЛО И ПОСЛЕДСТВИЯ
Наступление социализма по всему фронту ознаменовалось не только борьбой с кулачеством, коллективизацией, но и рядом сфабрикованных ОГПУ дел. «Шахтинское дело» отразилось на положении не только технической интеллигенции, но и ученых, казалось бы, далеких от политики, — на математиках.
На протяжении 1920-х положение профессора Егорова медленно, но неуклонно ухудшалось. Выдающийся математик и педагог, человек глубоко религиозный, он плохо относился к советской власти и этого не скрывал. Егоров в меру своих возможностей противодействовал проводившейся большевиками политике очищения студенчества от лиц, имевших чуждое социальное происхождение. Только благодаря ему многие впоследствии знаменитые математики (например, будущий ректор Московского университета Иван Петровский, бывший сыном купца) смогли закончить университет.
В конце 1920-х гг. в Московском университете начал наводить порядки ректор, в будущем печально известный Андрей Вышинский. Пора было приниматься за «реакционных профессоров». В сентябре 1930 г. Егоров был арестован по сфабрикованному на Лубянке делу о Всесоюзной контрреволюционной организации «Истинно-православная церковь» и в 1931 г. умер в ссылке в Казани. Арест Егорова чрезвычайно перепугал Лузина. Опасаясь разгула идеологов, он покинул университет и нашел пристанище у академика Сергея Чаплыгина в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).
Страх Лузина был вполне оправданным. Развернувшаяся после ареста Егорова идеологическая кампания не прошла мимо него. Против него выступил Эрнст Кольман. Ему Сталин поставил задачу «разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии и естествознании».
Кольман-марксист распознал враждебный дух в философско-религиозных взглядах Егорова, Флоренского и Лузина. Против них он неоднократно и агрессивно выступал в печати. В 1931 г. он написал секретный донос на Лузина в ЦК. «Нужно подчеркнуть, что Лузин близко связан с виднейшим французским математиком Борелем, активным сотрудником французского военного ведомства. В бытность свою в 1929 г. в Париже Лузин гостил у Бореля». Этот донос фигурировал в период следствия по делу об организации «Истинно-православная церковь». Лузин не знал, что он проходил как член «Национально-фашистского центра» (вместе с Чаплыгиным) — дела, по которому был осужден выдающийся философ Павел Флоренский. В деле есть «показания» о встрече Лузина с Гитлером и получении от него инструкций(!).
Кампания против Егорова — егоровщина — не могла удовлетворить Кольмана, который занял пост начальника отдела науки в московском горкоме партии. В антилузинской интриге должны были принять участие бывшие ученики Лузина — «молодые инициативные» московские математики, и прежде всего наиболее непримиримый по отношению к нему Александров. Блестящий математик, уже успевший получить европейскую известность, член-корреспондент (с 1929 г.) АН СССР, но человек огромного честолюбия, он не мог оставаться в тени своего учителя. К нему присоединились восходящие звезды математики, даром что ученики Лузина, член-корреспондент АН Сергей Соболев, профессора Александр Гельфонд, Лазарь Люстерник и Александр Хинчин.
Началось все с мелкого эпизода. Лузин был приглашен на выпускные экзамены по математике в 16-ю московскую школу. В газете «Известия» 27 июня 1936 г. появилась его заметка «Приятное разочарование». В ней знаменитый ученый отмечает у школьников «глубокое понимание законов математики» и хвалит педагогов, хорошо поставивших преподавание сложного предмета. Через пять дней, 2 июля, на страницах уже газеты «Правда» появился возмущенный «Ответ академику Н. Лузину», подписанный «директором и политическим руководителем 16-й школы» тов. Г.И. Шуляпиным, в котором говорилось, что советская школа нуждается не в лицемерных похвалах, а в товарищеской критике.
На следующий день, 3 июля, в «Правде» появляется анонимная статья «О врагах в советской маске», написанная, судя по всему, Кольманом.
Проявления вражеской деятельности автор статьи видит, во-первых, в систематическом написании Лузиным похвальных отзывов на заведомо слабые работы (доказательств не приведено, но они и не требуются. — Авт.). Во-вторых, в публикации важнейших своих результатов на Западе и лишь второстепенных — в советских изданиях; в-третьих, в присвоении результатов собственных учеников; в-четвертых, в подсиживании и изгнании из Академии наук «действительно талантливых молодых ученых». Далее формулируется главное обвинение: Лузин «один из стаи бесславной царской «Московской математической школы», философией которой было черносотенство, православие и самодержавие»; поэтому деятельность Лузина можно характеризовать как росток «фашизированной науки».
Статья «О врагах в советской маске» — это только первый шаг в хорошо подготовленной пропагандистской кампании. Для ее развертывания нужно было получить высочайшее соизволение. И главный редактор «Правды» Лев Мехлис пишет 3 июля письмо в ЦК партии Сталину, Кагановичу, Андрееву, Жданову, Ежову и Молотову. Он просит «ЦК ВКП(б) санкционировать развернутое выступление по этому вопросу на страницах «Правды». И Сталин накладывает резолюцию, адресуя ее председателю правительства Молотову, которому подведомственна Академия наук: «Кажется, можно разрешить». Вождь не дает прямого указания, а лишь разрешение на исполнение под ответственность запрашивающего лица.
Пока в партийных инстанциях велась переписка, 3 июля в Математическом институте им. Стеклова проходит собрание научных работников, на котором были обсуждены помещенные в «Правде» статьи. В прениях выступили директор института академик Виноградов, член-корреспондент АН СССР Соболев, профессора Сегал, Люстерник, Кочин, Келдыш и др. Собрание осудило «гнусную антисоветскую деятельность Лузина» и поставило перед президиумом Академии вопрос о дальнейшем пребывании Лузина в числе академиков. Собрание указало «на необходимость одновременно усилить группу математики Академии путем пополнения ее новыми действительными членами и членами-корреспондентами». Последнее очень характерно. Каждая группа нападающих преследовала в ходе дела свою собственную цель. И некоторые из них этой цели достигли. На выборах 1939 г. академиками станут Соболев, Колмогоров и Кочин, членами-корреспондентами — Понтрягин и Хинчин.
За собранием в Математическом институте было созвано экстренное заседание президиума АН СССР. Центральным в проекте постановления был вопрос об исключении Лузина из состава действительных членов Академии наук СССР. В феврале 1931 г. на чрезвычайном общем собрании АН СССР впервые исключили академиков Платонова, Тарле, Лихачева и Любавского, арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности. В декабре 1934 г. из членов Академии был исключен славист Сперанский; в декабре 1936 г. — химики Ипатьев и Чичибабин; в мае 1937 г. — Бухарин и др. Находясь в зарубежной командировке, Ипатьев из газет узнал о раскрытии «контрреволюционной вредительской и шпионской организации в военной промышленности СССР». По этому делу были расстреляны его сослуживцы, и он решил не возвращаться на родину. Аналогичным образом поступил через год Чичибабин. В 1990 г. они были посмертно восстановлены в членах Академии. В случае исключения Лузина «делом» должны были заняться компетентные органы с последующим арестом и следствием, для которого в архивах ОГПУ собралось уже немало документов, в частности материалы по делу «Национально-фашистского центра». На заседании президиума была создана комиссия по «делу Лузина». Ничего хорошего такой поворот ему не обещал.
Комиссия заседала четыре дня. Сразу обозначились расхождения между планами закулисных режиссеров и «молодых» математиков. Последние нападали на Лузина, но отказались поддержать обвинения в «фашизации» науки и предпочтительном печатании своих работ за рубежом. За что и получили.
В «Правде» 9 июля появилась анонимная статья «Традиции раболепия». Это уже о нездоровой ситуации в некоторых научных кругах. Математика присутствует в тексте в качестве одного из примеров — наряду с биологией и физикой. Автор приводит имена Александрова, Колмогорова, Хинчина, которые «публикуют свои работы за границей, не печатая их у нас, в СССР, на русском языке». «Дошло до того, что даже популярные работы (по топологии, теории вероятностей) профессоров Александрова, Хинчина, Колмогорова, впервые напечатаны были за границей на немецком языке, а затем только был «поднят вопрос» о переводе этих работ советских ученых на русский язык и переиздании в СССР». Автор статьи весьма далек от математики, так как назвать статьи по топологии и теории вероятностей в специализированных научных журналах популярными мог человек, совершенно не понимающий, о чем идет речь. Некоторые исследователи считают, что автором был Мехлис, но это остается лишь версией.
В такой сложной обстановке проходило заседание комиссии под председательством автора русского текста революционной песни «Варшавянка» Глеба Кржижановского. «Молодые» почувствовали опасность, исходящую от последней статьи в главной партийной газете, и попытались сосредоточить весь огонь на Лузине. Особенно за его связи с иностранными коллегами.
Последнему пришлось, как тогда было заведено, каяться во всем, обещать никогда не иметь связей с иностранными коллегами Лебегом, Серпинским, Борелем, Гильбертом и др. «Дело Лузина» всплывет через 12 лет. Осенью 1948 г. в Варшаве проходил VI съезд польских математиков, на котором предусматривалось чествование Вацлава Серпинского. В связи с обращением Польской академии наук президент АН СССР академик Сергей Вавилов обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой командировать в Польшу делегацию советских ученых. Секретариат ЦК ВКП(б) отклонил просьбу. Заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды Ильичев писал Маленкову: «Польский профессор Серпинский известен как один из самых реакционных польских математиков и буржуазных националистов. В 1936 г. в связи со статьей в газете «Правда», критиковавшей академика Н.Н. Лузина за преклонение перед иностранщиной и неправильное отношение к молодым научным кадрам, он выступил в печати в защиту Н.Н. Лузина, с нападками на советскую печать».
Атмосфера продолжала сгущаться, и казалось, что трагический конец уже близок. На это указывали ссылки на раскручиваемое в это время дело «троцкистско-зиновьевского центра». И вдруг произошел резкий поворот.
На последнем заседании комиссии тон задавали приехавшие из Ленинграда академики Алексей Крылов и Сергей Бернштейн. Первый активно защищал Лузина от обвинений в пресмыкательстве перед иностранщиной, а второй рассказывал о заслугах Лузина перед математикой. На заседании не упоминалось, что в защиту Лузина выступили многие известные ученые. Академик, выдающийся физик Петр Капица направил Молотову письмо-протест, написанное в весьма резких выражениях. Письмо было возвращено с издевательской резолюцией: «Возвратить гр-ну Капице за ненадобностью». Тем не менее, оно сыграло свою роль. В тот период советское руководство вынуждено было считаться и с реакцией за границей.
Великий французский математик Лебег, избранный в 1929 г. за выдающийся вклад в математику в АН СССР, автор «интеграла Лебега» и «меры Лебега», без которых нет современной математики, в письме от 5 августа 1936 г. возмущен до крайности: «Вы увидите, что нападки на Лузина с целью его изгнания и освобождения места для Александрова начались не вчера. Вы увидите там, что меня уже приписали к этому, противопоставляя «мою» науку, буржуазную и бесполезную, пролетарской и полезной науке. Потому что первая была наукой Лузина, а вторая — наукой Александрова». Серпинский высказывается еще более резко: «Я придерживаюсь того мнения, и того же мнения мои польские коллеги, что присутствие господ Александрова, Хинчина, Колмогорова, которые самым нечестным образом выступили против своего бывшего учителя и ложно обвинили его, — нельзя терпеть ни в каком собрании честных людей».
Реакция за границей в той обстановке учитывалась партийным руководством. Маховик репрессий только раскручивался, и какие-то прагматические соображения еще принимались во внимание. Можно высказать еще одно соображение. В этом деле Сталин не увидел необходимого пропагандистского эффекта. Народу сложно было объяснить, в чем заключается «вредительство» математиков, которые в народном сознании занимались совершенно непонятными формулами, далекими от жизни, но в силу этого были авторитетными. Ведь дети большинства мучились решением задач про поезда, идущие навстречу друг другу, время встречи которых так трудно было найти. А чем отличаются функции действительного переменного от функций комплексного переменного, из кремлевских вождей вообще никто не понимал. Другое дело биология. Легко было натравить голодный народ на ученых, изучающих мушек за народные деньги, — а хлеба в магазинах как не было, так и нет. Чем и занялись через 12 лет. Хотели раньше, но война помешала.
И еще один фактор. При всей абстрактности математики без нее не могли обойтись прикладные науки, в первую очередь авиация и артиллерия. Даже при своем низком уровне образования Сталин это понимал. Поэтому и дал устное указание ограничиться простым осуждением Лузина.
Впрочем, остановить локомотив осуждения оказалось не так легко. По университетам и институтам прошли собрания с гневными резолюциями. Была подготовлена почва для осуждения уже после войны «буржуазных» наук кибернетики и теории информации. Потом прошлись по биологии и генетике. Но это уже другая история («День», 6 сентября 2008 г., №159).
В Томске затеяли свое «дело», устроив в сентябре 1936 г. политическую чистку местным ученым, в том числе иммигрантам Стефану Бергману и Фрицу Неттеру. Бежавшие в СССР от нацизма математики сумели наладить издание «Известий НИИ математики и механики» на немецком языке. Издание было настолько авторитетным, что многие иностранные ученые стремились печатать в нем свои статьи. Немецкий язык советского издания и был поставлен им обоим в вину. Коснулась кампания не только математиков, но и физиков. В Харькове выходил на немецком языке известный советский журнал Physikalische Zeitschrift der Sowjet Union, дававший отечественным физикам возможность выходить на мировую аудиторию. В качестве вклада в кампанию против «раболепия перед Западом» местный обком постановил отныне издавать этот журнал на украинском языке. Ну, это было уже слишком, перестарались товарищи. Решение тут же было отменено Москвой.
С «делом Лузина» сопрягается Пулковское дело. В «Ленинградской правде» 18 июля 1936 г. вышла статья «Рыцари раболепия», где ученые Пулковской обсерватории обвинялись в публикации результатов в первую очередь в иностранных изданиях. Дальше — больше. В НКВД сфабриковали дело против группы ученых по обвинению в «участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры». Арестованы были сотрудники не только Пулковской обсерватории, но и многих других научных организаций — астрономы, геологи, геофизики, геодезисты, математики ряда научных и учебных заведений Ленинграда, Москвы, Харькова и других городов.
Что помогло устоять советскому математическому сообществу в тяжелые годы идеологических погромов 1930 гг.? Почему оно не разделило судьбу советской биологии?
Математика в дореволюционной России была одной из наиболее развитых областей науки (вспомним имена Лобачевского, Остроградского, Чебышева, Ковалевской, Маркова). К 1920 гг. в стране уже сложилось мощное научное сообщество. Даже в случае удаления его лидеров (арест Егорова, исключение с ведущих позиций Лузина) оно сохраняло в своем составе достаточное количество выдающихся математиков. Особенно важным оказалось моральное влияние Егорова, окончившего жизнь мучеником за веру и науку. Поразительно, что его имя — врага советской власти, осужденного советским судом, — неоднократно вспоминается во время разбирательства по «делу Лузина» и произносится там всегда с почтением. Высокий моральный стандарт Егорова уберег сообщество математиков от кольманов. Во главе всех важнейших институтов, как правило, стояли крупные ученые. И даже если они подчас не являлись достойными в других отношениях людьми, их научный уровень не мог не сказываться на их деятельности.
Чувство вины перед учителем, судя по всему, не покидало «одержавших победу» учеников. О своем долге перед памятью учителя до самой смерти не забывал один из величайших математиков XX в. Колмогоров. Буквально гимном Лузину звучат воспоминания Люстерника. Наверное, память о несправедливости в отношении Лузина подвигла Колмогорова перед войной выступить против Лысенко. В своей статье на основе теории вероятности он показал, что результаты учеников «народного академика» являются подтасовкой. Взбешенный Лысенко заявил, что «в биологии методы математики неприменимы!». В 1955 г. большая группа ученых обратилась в ЦК с требованием восстановления исследований по генетике и отстранения Лысенко от руководства Академией наук. Это обращение известно как «письмо 300». Все выдающиеся советские математики и физики присоединились к своим коллегам биологам. И среди них Александров, Колмогоров, Хинчин, Люстерник...