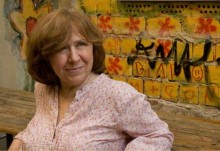Белорусская писательница Светлана Алексиевич завершила свою пенталогию о «красной империи», над которой работала 35 лет. В нее вошли: «Последние свидетели (сто недетских рассказов)», «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва: хроника будущего», а вскоре свет увидит последняя часть пятикнижья — «Время second-hand». Многие годы автор собирала истории свидетелей войны и катастроф, пропускала через себя тысячи исповедей, пытаясь познать сущность советского человека. Ее считают первым представителем «художественного документализма», хотя сама она называет свой стиль жанром человеческих голосов. Это человек, который знает войну и Чернобыль в лицо. Это журналистка, которая выдержала суды и политическое давление в Беларуси, долгое время «кочуя» по Европе — жила в Италии, Франции, Германии, Швеции — и все-таки вернулась в Беларусь. Но прежде всего — это откровенная и сильная женщина, которая помнит о человечности и ценностях.
Нам ее удалось встретить на белорусско-шведских днях «Литературное путешествие: Беларусь», которые из-за проблем с белорусскими визами для шведских организаторов и напряженной дипломатической ситуации между Беларусью и Швецией проводили на «нейтральной» территории — во Львове. Кстати, сам автор родилась в Ивано-Франковске, где в возрасте двух лет едва не умерла с голоду... этот факт весьма озадачивает, чтобы оставить его без объяснений. Нам Светлана Алексиевич рассказала много воспоминаний из личной жизни, о собственном опыте общения с жертвами войны и Чернобыля, реставрации белорусской идентичности и геттоизации белорусской интеллигенции, а также о проекте своей жизни — изучении «красного человека»:
— Вас часто называют «Летописцем Великой Утопии», но в своей книге «Чернобыльская молитва: хроника будущего» вы вспоминаете, что сами является «свидетелем события — наравне со всеми». Что вы чувствовали, когда общались с жертвами войны, свидетелями катастроф? И ставили ли когда-нибудь себя на их место?
— Я бы не могла так откровенно рассказать о своей жизни, как мои герои. Я благодарна им и даже удивлена мужеством, с которым они высказывали всю свою боль. Но иногда отношения с моими героями очень сложные и очень разные. Женщина — героиня книги «У войны не женское лицо» плакала со мной во время беседы, а через какое-то время я получила посылку от нее с отчетами о военной работе и сообщение: «Это я рассказала тебе, чтобы ты поняла, как нам было трудно. Но писать в книге мы этого не будем. Девочка моя, в книге будем писать совсем другое». Она себе позволила такое, учитывая мою молодость, мне было только 30 лет. Существовал определенный патриотический канон, и ему надо было соответствовать.
Некоторых женщин, истории которых я опубликовала в «Цинковых мальчиках», мобилизовали генералы. Партийные работники подали на меня в суд. Одна история для меня очень болезненна. Я встретилась с женщиной, когда она сидела над гробом своего сына, которого привезли из Афганистана. Она сказала все, что об этом думала. Когда в ее маленькую комнатку площадью девять квадратных метров занесли огромный гроб, она надрывно кричала мне: «Скажи им! Скажи, что он столяр, которого заставили полгода дачи генералам ремонтировать. Его даже стрелять и бросать гранаты не научили! И отправили на войну, где в первый же месяц убили». А затем она оказалась среди тех, кто подал на меня в суд. Ее использовали генералы. Мне было больно слышать от нее: «Мне не нужна твоя правда, мне нужен сын-герой». Страдание не имеет законности. Здесь одно спасение — любить людей. Я люблю эту женщину, понимаю, что она сама не смогла разобраться в сложной ситуации. Сначала ей солгали, когда сына забрали на войну, а затем — когда притащили в суд. Это беда наших людей, которые не отвечают сами за себя. Это советский человек — смесь тюрьмы и детского сада.
— В 2000 году редакция польской газеты Tygodnik Powszeczny организовала «Суд над ХХ веком». В качестве обвиняемого был именно ХХ век, а в роли истца — польская интеллигенция. А кто, по-вашему, должен судить о тех событиях, которые вы описали в своих книгах. Кто должен за них отвечать?
— За каждым злом стоит конкретный исполнитель. Но у нас всегда остаются жертвы, а палачи бесследно исчезают. Есть много случаев самоубийств, которые люди совершали из-за страха, что узнают их дети, внуки. Так построена иерархическая система, что виновны все маленькие руководители — сверху донизу. Компартию судили, но не судили идею. Надо искать исполнителей — этих бабушек и дедушек. Вспоминаю одну показательную историю о женщине, которая родила ребенка в лагере. Она рассказывала, как жестоко относились к детям, ведь их родители — враги народа. И одна из таких командиров был чрезвычайно жестока. Эта мама с ребенком очень страдала из-за нее и пообещала себе — если выживу, обязательно ее найду и посмотрю в глаза. И вот, наконец, период перестройки, она едет в это поселение, находит эту женщину, которой уже за 90 лет. Сначала эта «воспитательница» не хотела ее даже в дом пускать, а затем начала объяснять: «Я не помню, вы все были такие одинаковые. Мы действовали по инструкции, как нам приказывали», жаловалась: «Сын пьет, муж умер, пенсия маленькая, живот болит». Постфактум несчастным остались все — и жертвы, и исполнители. Несмотря на это, я считаю, что зло должно быть наказано. Необходим суд над партией, над конкретными исполнителями за конкретные поступки. Иначе мы из этого не выпутаемся. Истцами такого суда должны быть жертвы и, конечно, элита.
— В диалогах с Полем Вирилио вы сказали, что «Чернобыль — это событие не только времени, но и истории, эта катастрофа породит философов». Как вы считаете, насколько эта катастрофа изменила саму человеческую сущность и человеческую культуру?
— Когда закончилась Вторая мировая война и все узнали о Холокосте, об убийстве пяти миллионов людей только потому, что они евреи, интеллектуалы Европы сказали — разве можно писать стихи или играть музыку после Освенцима (слова Теодора Адорно. — Ред.)? Как можно после этого жить? Но люди научились жить. А вот пониманию чернобыльской катастрофы что-то помешало. Сначала говорили, что «это все безалаберные русские, сами во всем виновны». Но как тогда объяснить Фукусиму? Такая же трагедия в передовой стране. Я была в Японии за несколько лет до Фукусимы. Это другая природа, другая технологическая цивилизация. И они тоже мне говорили — «это у вас, у русских, у нас все просчитано». Оказалось, что у них все было просчитано до 8,9 баллов землетрясения. Но природа непредсказуема — кто знал, что землетрясение достигнет 9 баллов — на 0,1 больше просчитанного? В Японии информацию тоже закрыли, сделали видимость того, что «все хорошо». И там тоже умирали камикадзе, которые работали до последнего. Но им хорошо платили — в этом заключается разница. У нас использовали солдат, а затем выбрасывали их на улицу. В Японии на такую работу идут старшие люди, деньги остаются семье. Это чистые отношения, но разве в мире об этом знают? И Чернобыль, и Фукусима остаются неосмысленными. Но думаю, что эти катастрофы будущего еще заставят людей задуматься. Нужно переосмыслить цивилизационные вопросы. В правильном направлении ли мы идем? Каковы наши отношения с природой? А это нуждается в глобальной перестройке, к которой человек еще не готов.
— Героев своих книг вы объединяете одним именем — «русский человек». Общаясь с белорусскими журналистами, можно услышать, что в плане идентичности Беларуси не существует, есть БССР. Ведь рядовые белорусы не знают историю, скажем, Великого Княжества Литовского. Каково ваше мнение по этому поводу? Возможна ли реставрация идентичности в Беларуси и на постсоветском пространстве?
— Мы потеряли много времени. Можно было создать государство, национальную философию и историю. Но мы опоздали на сто лет. Кто будет выполнять эту титаническую работу? Сегодня окружение людей, которые думают о Беларуси, похоже на гетто. Это интеллигенция — небольшое количество людей, хотя часто приобщается молодежь. Но этот «молодняк» подрастает, выходит на улицу протестовать (мы — белорусы!), их выбрасывают из университета и они выезжают в Европу. Это просчитанный цикл. Лукашенко совершал это преступление уже трижды. И мы опять ждем следующее поколение — а с ним такая же история. Беларуси нужны кадровые люди. А кто будет работать над вопросом самой идентичности, не знаю. Старшее поколение писателей отходит. Это большой вопросительный знак.
— Вы сами родились в Ивано-Франковске (отец будущей писательницы, сельский учитель, проходил там военную службу, бабушка Светланы Алексиевич — украинка. — Ред.). Повлияло ли это на ваше самосознание? Какие воспоминания остались с тех времен?
— Воспоминания бесконечно тяжелой жизни. Я же родилась после войны. Все эти калеки, которые гремели своими костылями. Очень хорошо помню запах цветущих садов, яблонь и груш, землю, из которой ногу не вытянуть. А также помню базары, которые пахли бедностью — салом и хлебом. Помню прекрасный язык, бабушку, которая белит хату в белой сорочке. Так зародился мой интерес к человеку. Помню разговоры, трезвость жизни, доверие к жизни. Именно поэтому в моих книгах нет пафоса. Потому что я помнила интонацию, как рассказывала моя бабушка, другие крестьянки. Бесконечная боль и бесконечное горе.
Помню ужасную бедность. Бабушка жила очень скромно. И вспоминаю, как вместе со мной везла на тачке мешок какой-то крупы, пшеницы, сахара. Мизерно мало в сравнении с тем, что она отработала. Советским офицерам ничего не продавали. Когда мне было два года, я едва не умерла, потому что меня нечем было кормить. Тогда мой отец пошел в женский монастырь просить продукты. Коллеги перебросили его через забор (через входные двери он не имел права зайти), и он пошел к настоятельнице. Он пытался достучаться до нее: «Ну, вы же служите Богу. Можете убить меня, все что угодно делать, но умирает ребенок...». Она сказала ему убираться: «Чтобы я тебя больше никогда не видела. Но жена твоя пусть приходит. В течение двух месяцев буду давать пол-литра молока ежедневно». Мне давали это козье молоко, и так я осталась в живых.
Когда японцы снимали кино по моим книгам, они хотели снять этот монастырь. Мы приехали туда, но там уже была семинария, а настоятельница, конечно, умерла.
— В интервью «Голосу Америки» вы сказали, что если кто-то и сделал Беларусь такой, то это не национальная интеллигенция, а Лукашенко. Почему так произошло, что вы не были услышаны? Есть ли сегодня в Беларуси интеллигенция, которая может быть услышана?
— Нет. Нет национального ощущения, которое есть у прибалтов. Как только наступила перестройка, они сказали: я — литовец, я — эстонец, я — латыш. Хотя их очень мало — по 1,5 — 3 млн. Мы думали, что после перестройки белорусы тоже захотят узнать об истории, культуре. А у нас ринулись «жить». Купить машину, поехать в Египет, получить визу, виллу построить. Эти национальные вопросы тревожат очень небольшой круг людей. Даже слушая наших ребят (белорусских писателей. — Ред.), я заметила, что они говорят о той Беларуси, которая у них в голове. Вы хотите ее изменить, но ее нет! Я приезжаю в какое-то село, а мне мужики говорят: «Какая свобода? У меня дом под городом. Пойди посмотри в магазин: колбаса трех сортов, бананы есть, водка какая захочешь — путинка, сталинка. Разве это не свобода? Почему ты не любишь Лукашенко? Пенсию дают, жить стало лучше, дети на машинах приезжают...». Пока Лукашенко поддерживает этот контракт с населением, ничего не изменится. Не знаю, где он берет деньги — либо контрабанда, либо продажа оружия, но зарабатывает он достаточно.
— Вы верите в Беларусь без Лукашенко, после Лукашенко?
— Ну, рано или поздно он уйдет — не «кощей бессмертный». Я думаю, это будут сложные времена. Если за это время люди вокруг учатся жить в новых реалиях, то мы законсервированы. У нас эдакий имперский социализм.
— Вы отмечаете, что для своих книг выбрали жанр человеческих голосов и в то же время утверждаете, что современный человек оказался лицом к лицу с миром. Очевидно, речь идет о маргинализации личности, которая, в свою очередь, ведет к недостатку личностей в политике, искусстве, культуре. Ощущаете ли вы кризис личности, в частности в Европе?
— В Европе выше культурный уровень. Над этим должно работать не одно поколение. Существует диктатура маленького, массового человека. Об общефилософском кризисе можно говорить. Но парадигма, на которой строилась цивилизация, сегодня переживает кризис. Для меня откровением стало то, что постсоветское пространство оказалось таким «голым». Не знаю, есть ли у вас такие личности, но в Беларуси — нет. Были баррикадные личности борьбы. А вот просто духовных гуру нет. Вся интеллектуальная жизнь сводится к тому, что нужно убрать Лукашенко. Прочь Путина. У вас — Януковича. И мы даже не замечаем, как топчемся на одном месте, как общество тупеет. Это не является миссией человека. У человека есть высшая миссия... это человеческое таинство, смысл человеческой жизни. А мы являемся заложниками культуры борьбы — умереть на баррикадах. Я вернулась в Беларусь. Где люди? Все выехали. Вспоминаю, мы вместе перестройку начинали, движение «Мемориал», мощные процессы. Сейчас никого нет. На постсоветском пространстве образовалась пустота.
— Как мы уже знаем, вы завершаете свою пенталогию, пятикнижье о «красном» человеке. Какой он — этот советский «красный» человек?
— Смесь тюрьмы и детского сада. Человек, который все доверил государству, который не умеет делать выбор, жить сам за себя. И его нельзя в этом обвинять, потому что с детства его не научили. Свободных людей не сделать за один день. Это не швейцарский шоколад и не финская бумага. Процесс сотворения человека очень долгий. А мы с вами попали в промежуточный период. Свою последнюю — пятую книгу из цикла «красной империи», я недаром назвала «Время second-hand». Поношенные идеи, поношенные слова, поношенная одежда. И у власти, и у нас.
Но философия человека будет меняться. И сейчас я изучаю человека уже без «красной» идеи, который живет своей жизнью. Экзистенциально. Есть замысел написать 100 рассказов о любви и смерти. Я попробую рассказать о славянском человеке, который пробует жить без идеи — коммунистической или какой-либо иной, а ищет высшие цели в жизни. У нас нет культуры и литературы счастья. И этому надо учиться, пробовать жить для себя, не только ради «родины». Я тоже буду учиться быть счастливой. Несмотря на все, чем я занимаюсь, я люблю жизнь. В ней очень много прекрасных вещей — любовь, природа, для меня — маленькая внучка. Это течение жизни. Надо уметь опомниться, остановиться и задуматься — для чего я живу?