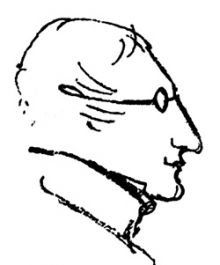Продолжение. Начало в № 41 от 06.03.04 г.
Даже его высокочтимые, окутанные величавой славой друзья-покровители Александр Пушкин, князь Петр Вяземский, воспитатель наследника престола Василий Жуковский не смогли выпросить для Гоголя место ординарного профессора общей истории в Киеве. И объяснение этому заключается в строгом запрете на предоставление полякам должностей в государственной службе, начавшем действовать после восстания 1830— 1831 гг. в Варшаве. Известно, что одним из руководителей этого восстания был генерал В. Яновский, занимавший в генеалогии рода Гоголей- Яновских значительное место. Мать Николая Гоголя Мария Косяровская до 14 лет жила и воспитывалась в доме родителей своего двоюродного брата генерал-майора Андрея Трощинского, который был женат на внучке последнего короля независимой Польши Станислава Понятовского.
Вторая часть фамилии Гоголей- Яновских играла большую роль, поскольку корнями уходила в древнюю священную ветвь выходца из Польши Ивана Яковлевича, который был назначен в 1695 году священником Троицкой церкви г. Лубны. Его сын Демьян (Дамиан) Яновский станет священником Успенской церкви, сын которого Панас уже будет носить фамилию Гоголь-Яновский. 1 Хутор Купчин, которым владел дед Николая Гоголя Панас Демьянович Яновский, станет называться Яновщиной, а при владении этой усадьбой отцом будущего писателя — Васильевкой. Дед Николая Гоголя закончил Киевскую духовную академию, служил в Генеральной военной канцелярии на должности полкового писаря, а дополнение «Гоголь» к его фамилии «Яновский» впервые встречается в «Дворянской грамоте», которую Панас Демьянович получил 15 октября 1792 г. 2
В Санкт-Петербург юный Николай прибыл с двойной фамилией — Гоголь-Яновский, но вскоре отказывается от второй ее части, о чем сообщает матери Марии Ивановне Гоголь- Яновской в письме от 6 февраля 1832 года. По-видимому, это было обусловлено желанием облегчить процедуру переписки, в частности, поиска его в Петербурге почтальонами. Во всяком случае, такое объяснение он дает в письме матери, но с тех пор он подписывает все свои произведения и письма только одной фамилией — Гоголь. А, возможно, он боялся, как бы в нем не видели поляка, которых после Варшавского восстания преследовали. Польские книги конфисковывались, и он стремился избежать трудностей в процессе публикования своих книг, на титуле которых стояла бы фамилия Яновский.
Вынося свою первую книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки» на суд читателей под фамилией Гоголь, молодой писатель тем самым подтверждал свое уважение к славным предкам — к «старым национальным фамилиям», свою принадлежность к старинному казацкому роду, представители которого покрыли себя ратной славой, отличились на дипломатической службе и не раз фигурировали в казацко-старшинских документах как важные деятели казацкой Украины времен Гетманщины.
«Он был потомком наказного гетмана Михаила Дорошенко и Правобережного гетмана Петра Дорошенко, потомком наказного гетмана Якова Лизогуба и Левобережного гетмана Ивана Скоропадского. Он — внук секунд-майора Панаса Гоголя-Яновского и офицера лейб-гвардии Измайловского полка Ивана Косяровского. По женской линии — породнен с Мазепой, Павлом Полуботком и Семеном Палием» 3 .
Имя гетмана Ивана Мазепы далеко не случайно в генеалогическом дереве Гоголей-Яновских — дядя матери Николая Гоголя, министр и сенатор Дмитрий Трощинский вел свою родословную из глубин малороссийского высокого дворянства, в частности и от рода Мазепы, с которым породнился его прадед Матвей Трощинский.
И хотя Николай Гоголь никогда не кичился своей родословной, иногда высказывался скептически о необходимости уточнения биографических данных, связанных с родословной и национальностью, однако чувствительно реагировал в своих произведениях на «оглядку» своих героев на глубины родовой памяти — на дедов- прадедов.
Так что неудивительно, что Николай Гоголь, который хоть уже и преодолел серую северную тоску, разочарование Петербургом, бедность и одиночество, однако не утолил ностальгию по домашнему уюту и роскошной украинской природе. Желание ехать на Украину в Киев было так велико, что он начал уговаривать Михаила Максимовича как можно скорее отправиться в роскошное, урожайное украинское лето: «А повітря! а гливи! а рогіз! а соняшники! а паслін, а цибуля! а вино хлібне… Тополі, груші, яблуні, сливи, морелі, дерен, вареники, борщ, лопух! Це просто розкіш!» 4
Мечта занять кафедру в Киеве для Николая Гоголя была своеобразным импульсом пробуждения в чужом городе национальной ностальгии и стимулировала его национальную ответственность. Свидетельство тому — системное изучение исторических источников, связанных с деятельностью Богдана Хмельницкого и периода Хмельнитчины, записи украинских песен, преимущественно исторических — около 50 песен Гоголь записал в специальную тетрадь собственноручно, штудирование «Запорожской старины», летописей Конисского, Шафонского, Ригельмана, труды на французском Й. Б. Шерера «Анналы Малороссии, или История запорожских и украинских казаков…» Правда, все это будет позже, когда ему откажут в киевской кафедре и Николай Гоголь займет с 24 июля 1834 г. должность адъюнкт-профессора кафедры общей истории С.-Петербургского университета, начнет читать лекции в Институте Патриотического общества, будет готовить вторую редакцию «Тараса Бульбы» и обдумывать драму из украинской истории.
Однако это поражение с получением кафедры больно травмировало ослепленного первыми лучами литературной славы и обласканного высокими знакомствами двадцатитрехлетнего автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Как это так, его книга понравилась самой императрице, по велению самой императрицы его назначают учителем истории в Патриотическом институте, находящемся на ее попечении, ему учтиво кланяется аристократ князь Петр Вяземский, его литературной судьбой интересуется такой авторитетный литератор, как Петр Плетнев, которому Александр Пушкин посвятил поэму «Евгений Онегин», а с Пушкиным он настолько близок, что велит матушке адресовать ему письма на имя Пушкина, в Царское село, — а его не приглашают возглавить кафедру в Киеве?
Николай Гоголь глубоко обижен, он поникший, растерянный. «Современная слава», которая так нежно обласкала его после появления «Вечеров...», не хотела согревать его честолюбие только творческими вспышками выращенного на преданиях, сказках, легендах и поверьях воображения, звала на Невский проспект, в тесные комнатки мелких чиновников и в пышные палаты высоких сановников, заманивала в богом забытые углы притихшей от страха перед столичным чиновником ленивой и одуревшей от неконтролируемого своеволия России.
После большого успеха «Вечеров...» Гоголь вознамерился писать исторический роман «Пленник», пробует начать большое произведение об Острянице, печатает отрывки из романа «Гетман» — об Украине XVII века с ее романтической историей, мощными характерами, величавыми батальными сценами, но не получалось.
При жизни он так и не опубликовал набросок «Размышления Мазепы», в котором спрашивал: «…чего мог ожидать народ, такой отличающийся от русских , который дышал вольностью и молодецким казачеством, хотел пожить своей жизнью? Ему угрожала потеря национальности , большее или меньшее уравнение прав с собственным народом самодержца» 5 (курсив Ю. Барабаша).
Кстати, Шевченко, находясь в Яготине, собрался было писать либретто к опере «Мазепа» на музыку Петра Селецкого. Но из этого творческого союза ничего не вышло, поскольку Шевченко смотрел на Мазепу как на поборника свободы, поднявшегося против деспотизма российской империи, тогда как Петр Селецкий не осмеливался выйти за пределы мифологемы «Мазепа-предатель».
Николай Гоголь осознавал, что его народ, его родина заслуживают великого и счастливого будущего. С какой любовью он описывает свой родной край в «Погляді на складання Малоросії» с ее величественными, густыми лесами, широкими степями, полноводным Днепром и казацкими порогами, с ее открытыми, безграничными просторами без естественных границ из гор или морей. Если бы такие природные заставы имела его Украина даже с одной стороны, пишет Гоголь, тогда «и народ, который поселился здесь, удержал бы политическую жизнь свою, создал бы отдельное государство».
Он верил, что скоро, вот-вот его край проснется от сна, осознает свою историческую миссию и предстанет как «цивилизованная нация» (Гердер).
Его воображение еще держали в своей праздничной фееричности «Вечера...», однако все чаще взгляд писателя фиксировал серый морок, понурые фигуры, темные подворотни и бледные, словно поганки, колебания огоньков свечей в закованных камнем чиновничьих кельях.
Украинский дух Гоголя понемногу чах, а порыв быть среди первых, тешиться успехами и большими деньгами, учить и звать за собой стремящихся к человеческому самоусовершенствованию, к духовному просветлению наклоняли его к столу. И он писал. Начинал — и не заканчивал, рвал в клочья отрывки, бросал в огонь готовые сцены, впадал в отчаяние и через какое-то мгновение горячо молил своего гения не покидать его. Неутолимая жажда созидания возносит его воображение на такие высоты постижения прекрасного, что дух захватывало. Почти за один год (1833—1834) Гоголь напишет в первой редакции «Тараса Бульбу», «Старосветских помещиков», «Портрет», «Невский проспект», «Вия», повесть о Поприщине, пьесу «Женихи», которая перерастет в комедию «Женитьба», «Арабески», «Миргород», ряд статей; осмысливается им идея «Мертвых душ»... Казалось бы, сценический успех в Санкт-Петербурге комедии «Ревизор» утешит писателя, но нет. Хотя, как пишет он в письме М. С. Щепкину в апреле 1836 г., уже четвертая постановка в знаменитой Александринке — а билетов не достать. Успех большой и шумный, но все против Гоголя: «Чиновники возраста пожилого и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, коль я осмелился так говорить о служилых людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Ругают и ходят на пьесу… Малейший призрак истины — и против тебя восстанут, и не один человек, а целые сословия» 6 .
А что было бы, если бы драматург взял что-то из петербургской жизни, раз провинциальный сюжет так возмутил столичную публику? Поэтому Николай Гоголь отказывается от постановки в 1836 году пьесы «Женитьба» и под предлогом того, что хочет ее доработать, забирает с собой за границу. Он считает, что писатель, пишущий о современности, особенно комедийный писатель, писатель-моралист должен быть подальше от родины: «Пророку нет славы на родине» 7 .
Казалось бы, все есть — слава, деньги, влиятельные знакомства, а душа болит. Сколько раз Гоголь бежал из России — дважды домой, в Украину, чаще за границу, в Европу, прежде всего в Рим. Бежал от России, вопрошая: «Русь! Чего же ты хочешь от меня?» — и с горечью великой обиды и с чувством неутолимой жажды познания той же России возвращался назад. Возвращался, потому что там, в Украине, оставались в одиночестве мать, одинокие сестры, которых он нежно любил и о которых по-матерински заботился. Но душой чувствовал, что там, в России, для него нет светлого места и радости бытия.
Когда Шевченко в начале 1846 года , путешествуя по Украине, в Нежине записывает в альбом М. В. Гербеля четыре начальных строки стихотворения «Гоголю», автор «Мертвых душ» в то время уже сжег одну из редакций второго тома поэмы и бросил вызов всей России своими «Избранными местами из переписки с друзьями».
С трудом, глубоко физически и морально обессилев, Гоголь завершал свой второй том «Мертвых душ», пытаясь создать нечто особенное и прекрасное, как он публично обещал, но не получилось. Он ощущал, осознавал, что не был готов написать такую книгу, которой мог бы осчастливить и удивить Россию, открыть перед ней новый ее образ и новую веру. Эта идейно-эстетическое сверхзадача опустошила писателя до самого дна души и он зримо представлял свою смерть, ибо своими «Мертвыми душами» писатель не заставил Россию опомниться, хотя ей отдал он в жертву свои думы и переживания последних трех лет.
Эти три почти бесплодных года Гоголя невольно напоминают и о трех годах Шевченко, чрезвычайно плодотворных и значимых в его творческой биографии, и знаменитую тройку Гоголя, и тройку Чичикова, и тройку Руси. Символизирует ли что-то тройка в судьбах этих великих украинцев, кто знает?
Одно очевидно, обоим художникам в этой закаменелой имперской шинели было не до смеха. В год выхода гоголевской «Шинели» — в 1842 году — родилась символическая фраза городничего: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!»
Сжиганием редакции второго тома «Мертвых душ» Гоголь словно преодолевал один из наибольших пиков душевного кризиса, а «Избранные места из переписки с друзьями» своей неожиданной исповедальностью и смелостью в обнародовании частной переписки, акцентированием своей пророческой миссии направить Россию на путь морально чистого служения по велению Господа своему делу на своем месте, должны были бы, как он надеялся, оправдать то, что он не смог осуществить вторым томом поэмы.
Тяжелая физическая болезнь и глубокий душевный кризис охватили Николая Гоголя летом 1845 года. Но еще в конце 1844 года Николай Васильевич в письме О. Смирновой жаловался, что с тех пор, как он покинул Россию, с ним произошли большие перемены: все его естество захватила душа, внутренняя потребность духовного усовершенствования, ибо без душевной гармонии, убежден писатель, ни одна сторона ума не сможет открыться полностью, в пользу общества.
Все, что художник замыслит передать людям, повествует Николай Гоголь уже в письме в следующем 1845 году живописцу А. Иванову, должно сначала родиться в душе художника, вызреть в гармонии с его душевным строем, открыться полностью как законченное произведение, и уж тогда эта картина будет перенесена на полотно.
Душа Гоголя страдает, стремится к гармонии, идеалу — он жаждет веры как залога душевного покоя и новой идеи как цели творческой деятельности. Гоголь уединяется во Франкфурте, все чаще задумывается о поездке в Иерусалим, чтобы укрепить дух и наполнить обессиленное тело верой в свою пророческую миссию. Все чаще мысли сосредотачиваются на приближении физического конца: «Я дрожу весь, ощущаю холод непрерывный и не могу ничем согреться. Не говорю уж о том, что похудел весь как щепка, чувствую истощение сил и боюсь очень, чтобы мне не умереть раньше путешествия в обетованную землю».
Работа над вторым томом «Мертвых душ» шла тяжело, с большим напряжением воли и физических сил. Гоголь заставлял себя писать, поскольку завещал не отправляться к гробу Господнему до тех пор, пока не завершит этот труд. Отвлекался на письма, которые писал с радостью и с нетерпением ждал на них ответа — душа желала общения, отзыва и ответов на болезненные проблемы морального усовершенствования человека и общества. Рождалась другая книга — книга авторской исповеди, книга завещания, книга миссийного призвания поэта. На эту книгу под названием «Избранные места из переписки с друзьями» Гоголь возлагает большие надежды. Он надеялся, что благодаря этому труду он проложит для себя, для своей творческой миссии путь к новым эстетическим качествам изображения человека, который преобразуется духовно и нравственно в свете христианского идеала.
Шевченко в то время как «свободный художник» от Академии наук путешествует по Украине, зарисовывает церкви, монастыри, городки, людей, пейзажи... И в этот год, а именно в октябре—декабре, поэт напишет пятнадцать поразительно эмоциональных, исповедально «обнаженных», душевных стихотворений. Это — «Не завидуй багатому...», «Не женися на багатій...», «Єретик», «Сліпий», «Великий льох», «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Холодний Яр», «Давидові псалми», «Маленькій Мар’яні», «Минають дні, минають ночі...», «Три літа», «За що так любимо Богдана?..», «Заповіт». Именно в «Заповіті», написанном на пороге смерти — в предчувствии завершения земной жизни Тарас Шевченко завещает своей душе не покидать Украину до тех пор, пока она не порвет кандалы невольничества и не заживет «в семье вольной, новой». Только тогда, когда возникнет свободная и большая украинская семья, душа поэта может подняться в небеса — к Богу, «...а до того // Я не знаю Бога».
Для Гоголя эти три года напряженного, душевно обессиливающего творческого труда над вторым томом «Мертвых душ» — после поразительного успеха «Ревизора» и первого тома знаменитой поэмы — казались почти потерянными, тогда как Шевченко за три года (1843—1845) вырос до уровня украинского национального поэта с высокой пророческой миссией и, словно в знак осознания своего национального призвания, составляет рукописный альбом своей поэзии под названием «Три літа», в который заносит 23 написанных за этот период стихотворения.
Его призвание — сказать «святую правду на земле», подать за Украину «голос новый», воскресить украинское слово, которое оживит правду, и это слово будет «святое», «божье», «господне», «великое», «огненное», «тихое, доброе, кроткое»... Поэт молит «святую праведницу мать»:
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом живим
І оживи і просвіти!
Николай Гоголь, как и Шевченко, вел всегдашний диалог с Богом в надежде обрести нравственные силы для самоутверждения в вере, в долге служить истине, а значит — обществу. Гоголь мог повторить вслед за Шевченко: «Нащо живем? Чого бажаєм? Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла?», о чем свидетельствует его «Авторская исповедь», в целом «Избранные места...» и тот драматический душевный разлад, которых сопровождал сложный христианский путь самопознания гениального художника.
Находясь в Украине, а именно во Вьюнищах под Переяславом, где поэт гостил у своего приятеля Степана Самойлова, Шевченко 19 декабря 1845 года завершает поэтический цикл «Давидові псалми». Там он, работая над перепевами псалмов, перечитывал Псалтырь, размышлял над судьбой Иерусалима, куда в минуты душевного отчаяния и физического бессилия рвался Николай Гоголь и который он посетил в феврале 1848 года.
Старинный Иерусалим символизирует у Шевченко Украину, которую он на чужбине не забывает, к которой с такой жаждой стремится его душа.
Коли тебе забуду,
Ієрусалиме,
Забвен буду,
покинутий Рабом на чужині.
І язик мій оніміє,
Висохне, лукавий,
Як забуду пом’янути
Тебе, наша славо.
Гоголь паломничеством в Иерусалим хочет проверить, есть ли у него вера, потому что умом он осознает необходимость и жажду веры, а вот душой ее не ощущает; душа холодна, молчалива и не может очиститься. Теперь он, после глубокого разочарования, пережитого в Иерусалиме, единственную надежду возлагает на «милое искусство». Шевченко также уповает на «святеє слово» — на высокую миссию искусства и молится, чтобы Господь внушил им, незрячим и безразличным, «уст моїх глаголи».
Шевченко задумывался над идеей нового Иерусалима — «второго Иерусалима», которая должна воплотиться в особой миссии Киева как столице греко-славянской православной цивилизации Украины-Руси, тогда как Москва и дальше лелеяла идею «третьего Рима» — имперской государственности, якобы унаследованной от Византийской империи.
Шевченко молит Бога не отворачиваться от него, не покидать его в одиночестве, в муках души и в боли сердца, обратить свой взгляд на слезы и скорби своего народа.
Встань же, Боже,
Вскую будеш спати,
Од сльоз наших одвертатись,
Скорби забувати!
Смирилася душа наша,
Жить тяжко в оковах,
Встань же, Боже,
поможи нам
Встать на ката знову.
Поэт чувствует себя одиноким в Украине, где все оглохли, стали равнодушны к национальному делу, покорно склонились в кандалах, — некому показать свои думы, которые сжимают до онемения сердце, раздирают душу, тихонько плачут в скорбном переживании лихой участи Украины.
Одинок и Гоголь. Слава его велика, но писателя тревожит творческим беспокойством душа, которую все чаще охватывают печаль и скорбь, тоска по покинутой добровольно родине, осознание того, что его «Избранные места...» не восприняли, не поняли.
Обоих — и Шевченко, и Гоголя — высмеет и заклеймит «неистовый» Виссарион Белинский. Шевченко — за поэму «Гайдамаки» и особенно за сатирическую поэму «Сон», на что поэт, словно предвидя раздраженную реакцию на «Гайдамаков», достойно ответит во вступлении к этой поэме. Ответит с гордостью за свой народ и за его историю, за героическую славу Украины и за его язык, ибо знает, о чем хочет читать великосветская столичная публика:
Коли хочеш грошей,
Та ще й слави,
того дива,
Співай про Матрьошу,
Про Парашу, радость нашу,
Султан, паркет, шпори,
— От де слава!
От великой любви и восхищения творчеством Гоголя Белинский переходит к гневу и оскорблениям в его адрес, как это видно уже в 1842 году из письма критика В.П. Боткину по поводу опубликования очерка «Рим»: «Страшно подумать о Гоголе, ведь же во всем, о чем написал, одна натура, как у животного. Необразованность абсолютная» 8 .
И это тот Белинский, который в 1846 году назвал Гоголя «самым национальным» и «величайшим из русских поэтов», а уже в следующем году скажет об «Избранных местах...»: «Мерзкая книга, мерзость негодяя».
Переписка Гоголя и Белинского по поводу опубликования книги «Избранные места...» свидетельствует об их кардинальных расхождениях во взглядах на перспективы развития русского общества. Белинский настаивал на необходимости решительного, вплоть до террора, слома системы управления и таким способом стремился достичь качественного изменения общества, тогда как Гоголь предлагал совершенствовать человеческую природу, лечить душу, формировать каждую отдельную единицу общества путем просветления души каждого — от крестьянина до самого высокого по рангу чиновника. Так, в письме поэту М. Языкову в апреле 1845 года предостерегал от чрезмерного гнева — все свое возмущение и злобу следует направлять на тех, кто зловраждебно относится к людям: «Следует, чтобы в стихотворениях был слышен сильный гнев против врага людей, а не против самих людей» 9 .
Казалось бы, Николай Гоголь все делал для того, чтобы через нравственное усовершенствование человека реформировать самодержавную модель общественной организации бытия.
Там, в российской столице, Гоголь, как его герой Акакий Акакиевич, одевает новую шинель, которая служит ему своеобразным пропуском в мир аристократии. Будущая слава окрыляла молодого Гоголя, как Акакия Акакиевича питала духовно «вечная идея будущей шинели».
На Шевченко самодержавный режим грубо надевает солдатскую шинель — заковывает в кандалы физического и духовного невольничества и этим окончательно отторгает поэта от возможности диалога с системой. Но несмотря на все запреты и ограничения творческой свободы, его внутренняя духовная жизнь была интенсивной, плодотворной, заряженной на творческое самоосуществление. В условиях вынужденной изоляции Шевченко создал столько поэтических произведений, сколько он не написал в любой другой период своей творческой жизни.
От природы шутник, любитель веселья, песен, пирушек с чаркой, Шевченко и в творчестве любил юмор, сатиру, едкий и благожелательный смех. Его прозаические тексты насыщены ласковым и остроумным юмором, который «уживается» с язвительно ироническими и саркастическими инвективами в адрес деспотического, аморального панства, офицерства, придворных сановников, императорской семьи. Юмор Шевченко считал примечательной чертой украинского национального характера: «Земляки мої, а з ними разом і я, не можуть найповажнішої матерії не проткати хоч злегка, хоч ледве помітним жартом. Земляк мій (звичайно мимоволі) до зворушливого фіналу «Гамлета» втисне таке слівце, що крізь сльози всміхнешся» 10 .
Для своих русских повестей Шевченко приглашает в авторство Кобзаря Дармограя, которому суждено было быть не очень эффектным двойником настоящего — украиноязычного Кобзаря, который не даром играл, а органично повествовал о думах и надеждах своего народа.
Дармограй должен убедить русскую публику в том, что и на русском языково-культурном поле он может играть на равных с любым, манифестировав свое литературное мастерство рассказчика в изображении разнообразных слоев тогдашней России, в портретах, диалогах, характеристиках, описаниях природы. Доминанта юмористических элементов характеротворения, прежде всего национального юмора, комизма и сатиры настолько очевидна и, главное, эффектна в русских повестях Шевченко, что невольно возникает в эмоциональной памяти субъективная тональность повествования петербургских повестей Николая Гоголя, его «Мертвых душ» 11 .
Авторская речь прозы Шевченко и Гоголя настолько индивидуализирована образно-стилевыми, прежде всего национально подпитываемыми юмористическими эпитетами, перифразами, другими лексико-грамматическими и синтаксическими возможностями украинского языка, что невольно возникает мысль о необычайном родстве двух украинских душ — Шевченко и Гоголя, что проявилось, в первую очередь, в поэтике этих двух художников, в словесно-образном видении, в семантике и структурах создания образов.
Русский классико-романтический стиль творчества и поведения напоминал и Шевченко, и Гоголю человека на цыпочках, который возвышался над другими, но одновременно вызывал и смех, и сочувствие, и осознание неестественности такого состояния. Если Гоголь этому стилю противопоставляет смех в синтезе фантастического и комического, как логичное развитие украинской художественной традиции, основным элементом которой является бурлескно- травестийный стиль, то Шевченко сатирой, иронией, гиперболой, смехом подсекает эти «цыпочки», разрушает те котурны, на которых стояла не только тогдашняя русская словесность, но и сама имперская система. И если Гоголь пытается интегрироваться в эту систему с целью ее совершенствования, прежде всего, путем духовного оздоровления ее членов, то Шевченко стремится выйти на собственный — через родной язык — национальный путь государственного становления, творческого самоосуществления и тем самым вывести украинскую литературу на самостоятельный путь развития. Будучи в гостях в 1847 году в Седневе, у братьев А. и И. Лизогубов, Шевченко пишет предисловие ко второму, правда, неосуществленному изданию «Кобзаря», в котором призывает: «А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по- своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди» 12 .
Окончание читайте в следующем выпуске страницы «История и «Я»
1. См. подробнее: Смирнова Рената. Таємниці біографії Гоголя. — «Дзеркало тижня», № 3(478), 24 січня 2004 р.
2. Там же.
3. Там же.
4. Гоголь Н.В. Полное собр. соч.: В 14 т. — 1940. — Т. 10. — С. 297.
5. Цит. по: Барабаш Юрій. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії. — Харків: «Акта», 2003. — С. 222.
6. Гоголь Н.В. Собр. соч. : В 7 т. — Т. 7. — С. 127—128.
7. Там же. — С. 130.
8. Белинский В.Г. Собр. соч. : В 9 т. — Москва, 1982. — Т. 9. — С. 502.
9. Гоголь Н.В. Собр. соч. : В 7 т. — Т. 7. — С. 253.
10.Шевченко Тарас. Повне зібр. творів : У 12 т. — К., 2003. — Т. 4. — С. 297.
11.См. подробнее: Смілянська В.Л. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті. — Матеріали тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції. — Черкаси : «Брама», 2003. — Кн. 1.— С.182—191.
12.Шевченко Тарас. Повне зібр. творів : У 12 т. — К., 2003. — Т. 5. — С. 208.