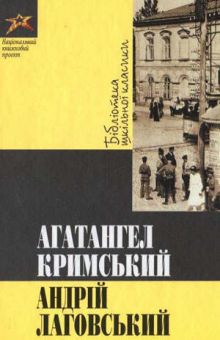Свои хождения в народ Крымский впоследствии будет описывать с иронией. С его точки зрения, от этого не только нет никакой пользы, напротив, получаются значительные обоюдные потери. Он утверждает: «Оті «хождения», які практикують такі недоуки, як студенти, є страшенна погань і мерзота. Перш усього велика шкода доводиться тим, що молодик повинен би був не гаяти час, [...] щоб опісля якими-небудь трьома-чотирма роками пізніше, послужити тому ж таки народові. [...] Друга шкода та, що «просвіщати» народ, будучи неуком, не маючи суцільних пересвідчень і основуючись тільки на трьох-чотирьох соціалістичних та нігілістичних (та й то погано розчовпаних) книжках — це є неморальність». Поражение Крымского в роли народного просветителя, которое имело больше объективных, чем субъективных причин, выглядит полностью закономерным. Незнание, непонимание жизни простонародья, его нужд и потребностей пересекались здесь с личной несформированностью и юношеским максимализмом. Попытки проповедовать, учить, кроме искреннего порыва и самоуверенности, не были подкреплены ни надлежащими опытом, знаниями, ни, что тоже важно, навыками общения. Вместе с тем попытки Леси Украинки в этом направлении оказались значительно более производительными именно благодаря направленности не к поучительству, а в первую очередь пониманию, налаживанию своеобразного сотрудничества, в конечном итоге, к взаимопознанию. Ее глубокая, так сказать, профессиональная заинтересованность традициями, обычаями, бытом, художественными достижениями, языком народа совмещалась с реальной помощью в решении неотложных проблем. Между прочим, действенность и результативность такого подхода удостоверяют не только со знанием дела написанные художественные произведения на украинские темы или упорядоченные писательницей материалы фольклористов. Показательной здесь является сама жизнь семьи Косачей в селе Колодяжном, обозначенная неподдельной заботой о судьбе местного, действительно родного ей люда.
Очевидно, что умение найти общий язык с народом на уровне непосредственного общения оказалось для молодежи не единственной и не самой действенной стратегией развития национального дела. Это была концепция украинофилов, которая в модерные времена выглядела устаревшей. Да и в целом все обозначенное общественно-культурное движение в тогдашних координатах многими воспринималось неуместным анахронизмом. В письме к Б. Гринченко Крымский высказался по этому поводу очень остро. Он пишет: «Українофільство є дуже гарна річ, але робітників вона сливе як не має, і загал українофілів або егоїсти, або хоч щирі, дак неуки». Примечательно, что себя автор приведенной сентенции в то время относил ко второй категории. А сделать правильный выбор ему опосредованно помог все тот же М. Драгоманов, который на вопрос молодого, энергичного человека «С чего нужно начинать труд для народа?», мог убедительно ответить — «С себя, с самоформирования и самосовершенствования».
Отстаиваемые М. Драгомановим принципы становления и подготовки нового поколения общественно-культурных деятелей (собственно интеллектуальной элиты нации) за основу имели требование самого широкого образования и не только общеобязательного — школьного или университетского. Чрезвычайно важными в условиях колониального строя были личный пример и наставничество, так сказать, образцом античного общения-поучения. Убедительным свидетельством успешной реализации такого подхода в случае самого Драгоманова может быть жизнь и деятельность его самой известной ученицы — Леси Украинки.
Круг учителей А. Крымского в национальном вопросе несколько шире, чем у Леси Украинки. Рядом с М. Драгомановым в этом ряду обязательно нужно назвать имена П. Житецкого — преподавателя словесности в коллегии Галагана, а также Б. Гринченко и И. Франко. Однако, признавая авторитет каждого из указанных деятелей, Крымский как настоящий ученик стремился не к слепому наследованию, а к переосмыслению и, так сказать, обогащению усвоенных представлений и идей, а следовательно, и их производительному развитию на качественно высшем уровне. Ученый, писатель, политик младшего поколения, свободно чувствовавший себя в новых реалиях, он критически, а иногда и скептически воспринимал опыт предшественников (людей все-таки другого времени) и мог, невзирая на личные симпатии, достаточно остро оценить значимость и актуальность сделанного своими великими учителями. Стоит принимать во внимание и то, что сильная, одаренная личность жаждет самореализации прежде всего на тех поприщах, которые считает наиболее соответствующими собственным наклонностям и вкусам. Однако в отечественных реалиях, особенно для людей интеллектуально-творческого труда, такой альтернативы могло и не быть. Примечательной в связи с этим является история 1896 года с получением места профессора русско-украинской филологии во Львовском университете. Невзирая на организационные трудности, Крымский отказался от этой идеи еще и потому, что твердо и сознательно избрал для себя научное направление — ориенталистику, а следовательно, и востоковедческую кафедру в Москве. Это решение не смогли поколебать ни уговоры Б. Гринченко, ни обращение авторов коллективного письма с Черниговщины, которые апеллировали к патриотизму и обязанностям перед Родиной. В извинительно-решительном тоне свою позицию он объяснит П. Житецкому: «Декторі мої земляки не хтять зрозуміти, що йдучи на арабську кафедру, я зовсім і не думаю цуратися праці на рідній ниві, а навпаки — думаю, що своїм шляхом я швидко дійду до тієї мети, на якій вони бажали б мене бачити [...] Можу Вас завірити словом честі, що мені про кар’єру байдуже [...]. Коли я люблю Схід, то чи ж я тому винен? А що східна спеціальність не спинить мені роботу українську, дак цьому вірте».
В 1903 году в похожей ситуации оказалась и Леся Украинка. Именно в то время остро встала необходимость упорядочить архив М. Драгоманова, и взяться за это дело предложили племяннице ученого. Признавая необходимость и важность будущей работы, Леся Украинка все же отклонила это предложение, ведь хорошо понимала, что в случае согласия, должна будет, в сущности, отказаться от того, чем жила всю свою сознательную жизнь. «Може той архів, для якого я (мусила б) [...] зробити таку жертву, і вартий її, може одне слово з нього варте більше ніж всі мої слова минулі і ще не народженні, тільки у мене рука не здіймається на таке самовбивство, я ще не маю сеї одваги, я ще не нажилася душею, я ще навіть як слід не спробувала своєї сили — і маю вже її занедбати, придушити, «скинутися»? Ні, не маю одваги, хоч киньте в мене каменем. Не можу», — писала она М. Павлику. В этом смысле поколение порубежья, по-видимому, не первое ли поколение отечественных интеллектуалов (прежде всего деятелей искусства и ученых), которое осмелилось так решительно и последовательно отстаивать свою самостоятельность, а собственно, право на свободу самореализации, которого, к сожалению, не имели, не могли себе позволить их предшественники.
Но все же полностью, говоря словами Леси Украинки, «скинутися громадської повинності» ни ей, ни Крымскому не удалось. И дело не только в ответственности перед порабощенной нацией, которая не может себе позволить роскошь чистого искусства. Сама эпоха требовала (и способствовала появлению) человека универсального типа, а, кроме того, у обоих потребность активной общественной деятельности была глубоко внутренней и органической. К сожалению, не сохранилось непосредственных свидетельств об особенностях работы и, в частности, практических заданиях, которые выполняли Леся Украинка и А. Крымский по поручению отечественных партий-обществ. Очевидно, сама специфика нелегального существования таких организаций требовала надлежащей конспирации. Лишь по одиночным и невыразительным намекам в переписке и попутным обмолвкам в воспоминаниях некоторых современников можем догадываться, что речь шла о перевозке нелегальной литературы и документов, а также решении каких-то партийных дел за рубежом. С уверенностью можно говорить о т.н. информационно-пропагандистской деятельности, которая проявлялась в первую очередь публицистическими выступлениями в периодике и подготовкой соответствующих — историко-социологического характера и политического направления — брошюр и прокламаций. Но что это далеко не все, подтверждает, между прочим, и «негласный» надзор полиции, который был установлен за гражданами Л. Косач и А. Крымским почти по одинаковым причинам: связи с зарубежными радикалами (главное, галичанами) и киевским социал-демократическим подпольем.
Особое внимание царской имперской власти к деятелям культуры проявлялось еще и через печальноизвестные цензурные комитеты, мытарства в которых были обязательным и часто непреодолимым препятствием на пути к читателю/зрителю. Украинцы, как представители периферии далеко не во всем лояльной к метрополии, подпадали в этом случае, так сказать, под двойной контроль, ведь, кроме общепринятых критериев разрешения, к ним с сознательной придирчивостью применялся и отбор по национальной принадлежности. Убедительным подтверждением сказанного может служить негативный опыт Леси Украинки и А. Крымского, которые в качестве писателей и дебютировать вынуждены были, в сущности, в другом государстве (Галичина тогда, напомним, входила в состав Австро-Венгрии). Однако особенно интересны здесь выводы специальной духовной цензуры, которая отмечала в наработках обоих не только вещи, противоречащие церковным или, шире, христианским догматам, но и откровенное безбожничество или даже богопренебрежение.
Глубокий интерес к религии как одной из самых давних форм культуры, сознания и познания, вопросы веры, особенности взаимоотношений человека и Творца — проблемы, которые во время порубежья далеко не для всех отечественных деятелей культуры и искусства казались актуальными. Долгое господство в интеллектуально-философской области позитивизма, а в сфере практической политики — социализма склоняло интеллигенцию к «исповедованию» рационального или даже воинственного атеизма. К этому, в свою очередь, подталкивала и православная церковь, которая в Российской империи, будучи инкорпорированной в государство, преданно обслуживала его интересы и даже гордилась миссией надежной подпоры трона. Понятно, что особого доверия такая духовная институция у мыслящей части общества не вызывала.
Мысль о деструктивной роли московского православия в целом разделяли и Леся Украинка, и А. Крымский, но их интерес к христианству это не потушило. К его глубокому исследованию каноническая, а следовательно, нормированная, ограниченная традиция любознательный ум лишь побуждала. В своих поисках истоков этого уникального и, несмотря ни на что, привлекательного вероучения, осмысления и переосмысления генерированной им философии, этоса, психологии оба двигались сразу по нескольким направлениям. Филологические аспирации, реализованные изучением Библии — вплоть до попыток переводить Новый Завет, совмещались здесь со сравнительным изучением истории человечества, изложенной в ветхозаветных источниках и документальных памятках других давних культур. Не меньшее внимание привлекала и заря новой эры — времена, когда слово Христово утверждалось в мире. Закономерно, что обозначенная заинтересованность находила свое яркое отражение и на уровне художественного творчества.
Впервые тема личностного понимания христианской доктрины была затронута в 1903 году. Тогда Леся Украинка, с просьбой о профессионально-критической рецепции, переслала Крымскому несколько своих новых произведений, среди которых и апокриф «Що дасть нам силу?..». К сожалению, реакция Крымского (его письмо к Лесе Украинке утеряно) не известна, но, что она была, сомневаться не приходится. Важным продолжением начатого разговора является своеобразная дискуссия вокруг другого произведения Леси Украинки — «В катакомбах», что, как известно, было посвящено Крымскому. Но перед тем как проставить посвящение, автор позаботился о разрешении на это. В своем обращении, где раскрыты и обстоятельства появления и воплощения творческого замысла, она, в частности, сознается: «Я занадто горіла, як її (поему — Р. С.) писала, і її ідея занадто мені близька, щоб я присвячувала її тому, хто буде для неї «ні гарячий, ні холодний». Будьте їй ворогом або другом і скажіть мені щиро, що і як Ви про неї думаєте [...] Вона рветься в світ, хоч і не знаю я, чи судиться їй побачити його хутко. Я її спиняти не буду, нехай летить, коли попи не з’їдять, бо вона на релігійно-соціальну тему, ще «гірша» від «Одержимої». І Ви трохи винні в її народженні, бо розбудили в мені думки в сьому напрямі своїм листом [...]. Тому мені здається, що моя поема рідна Вам». Крымскому драма понравилась, но прежде всего как художественное явление, так как своей идейной направленностью побуждала к ряду критических замечаний.
Примечательно, что во времени работы над своим единственным романом «Андрей Лаговский» (1905) Крымский занимался переводом на украинский язык книг Нового Завета. Работа продвигалась вяло и не в последнюю очередь из-за, так сказать, идейного разочарования и даже внутреннего сопротивления переводчика. Свое состояние он откровенно опишет в письме к Б. Гринченко: «Два рази був приступав до Євангелії — та й обидва рази знеохочено кидав; не лежить моє серце до тієї книжки, перекрученої попівством, та й частіше ніж колись находить у голову думка: «Ет! чи варто нам дбати, щоб народ мав у своїх руках тую книжку, де побіч ідеальних навчань є безліч небезпечної нісенітниці?». Собственными сомнениями и душевными метаниями писатель наделит и героя, который тоже будет переживать сложный период мировоззренческо-религиозного становления. Но, в конечном итоге, Лаговский придет к тому, к чему еще в молодости пришел и его автор, который в письме к О. Огоновскому искренне признался, что «уверовал в Бога». Очевидно, что понимать такое утверждение следует в первую очередь в смысле индивидуально-личностного выбора или, точнее, открытия/принятия идеи Творца безотносительно к церковным канонам и предписаниям. Но важно, что это своеобразное самодвижение сознательно происходило в русле идеалистичной христианской традиции, очевидно, на свое усмотрение очищенной от налета такого отталкивающего «поповства». Поэтому, по-видимому, и общение с Крымским на указанные темы для Леси Украинки, кроме консультативно-совещательного, имело еще и значительно более весомый духовно-философский уровень, базируемый на внутреннем опыте и самопознании.
Оценка же самого романа вышла достаточно критической. Отстаивая право отечественного художника на свободу творческого проявления, Леся Украинка тем самым пытается утвердить и непременную в модерные времена самодостаточность искусства лишенного неизменной общественной/классовой/национальной и т. п. корреляции или опеки. Поэтому и кажется ей автор «Андрея Лаговского» фигурой раздвоенной — в первую очередь в своих попытках примирить отмеченные полюса. Попытка скрыть или, по крайней мере, как можно меньше обнаруживать свою индивидуальность в художественном произведении оказалась непреодолимым противоречием (но, в конечном итоге, и проблемой) Крымского-писателя. Он, как кажется, так и не смог до конца избавиться от представления о художественной реальности как о феномене в общем смысле вторичном и едва ли не полностью привязанном к общественным интересам и потребностям. А при таких условиях даже талантливая книга никогда не предстанет явлением самодостаточным и самоценным.
Профессиональное общение было важным для обоих художников не только в смысле общего критического дискурса, но и полученной возможностью писать для образованного, вдумчивого, настоящего читателя, способного к восприятию полифонических художественных полотен. Это тем более важно, что в ту пору предлагаемые писателями-модернистами произведения, да еще и написанные на далекие от национального мира темы и сюжеты, редко находили адекватные отзывы у приученной к «беллетристической патриотике» аудитории. Стоит хотя бы вспомнить те многочисленные сетования, которые нередко граничили с обвинениями, избавиться от которых можно было лишь с помощью иронии, например, как в письменном автоотклике Крымского. Он сообщал Б. Гринченко: «З поводу свого «Пальмового гілля» здобув скількісь листів. Деякі з них зводяться на ось що: «Дякую за екзотичні поезії, але бажав би, щоб ви писали рідні». Неначе можна собі звеліти!.. Бачу поки що, що, виймаючи деякі одиниці, які мають вдачу більш-менш інтернаціональну, наша українська суспільність неохоче дивиться на щось екзотичне». А Леся Украинка упреки в экзотизме и преднамеренном отсутствии тенденциозности (ангажированности на социально-политические потребности настоящего) со временем, устав объяснять очевидное, привыкла просто игнорировать, соглашаясь, по ее же словам, со статусом «хвалимої, але не читомої» и, в сущности, невольно запираясь в башне из слоновой кости.
Одиночество, обособленность, которая в случае сильной, одаренной натуры обычно оказывалась неотделимой от свободы, в том числе и творческой, определяло особенности и даже возможности общения. Что касается Леси Украинки, то она хорошо знала эту грань своего характера и уже в начале знакомства пыталась деликатно, как это было, скажем, с О. Кобылянской, предупредить собеседника: «Я сама не дуже експансивна, — се, здається, вдача всієї нашої родини, — се не добре, але я нічого не можу проти сього, і Ви не беріть мені за зле, коли часом я здамся Вам не досить одвертою. Ніколи найближчі друзі не знали мене всієї, та я думаю, що се так і буде завжди. Друзі мої звикли до сього і дали мені волю говорити тільки про те, про що я хочу. Але я думаю, що їм ніколи не трапилось жалувати про те, що коли говорили мені». Кажется, что похожий на описанный тип отношений сложился и между автором приведенных слов и А. Крымским — побратимом Крымским (в том, что указанное обращение было чем-то более значительным, чем риторическая фигура, подтверждает его распространение еще только на личность М. Кривинюка).
Как известно, с появлением «Одержимой» началось восхождение Леси Украинки к вершинам искусства и, в сущности, именно А. Крымский благосклонным отзывом первый поддержал ее в это важное переломное время. По-видимому, взаимоподдержка, базирующаяся на понимании и уважении, и позволяла этим таким разным и вместе с тем таким похожим людям плодотворно работать в национальной культуре, быть ее творцами в модерное время. Не менее важным кажется и то, что (не впервые ли в национальной истории) равнозначная и полноценная роль здесь принадлежала как мужчине, так и женщине. «Бачите, мужеська «рація» в погляді на деякі справи дуже однобока, тому ми доповнюємо її своєю «рацією», може, теж однобокою, але тільки з них обох може вийти щось ціле і справедливе», — делилась с Крымским своими размышлениями писательница. Своеобразным примером такого, «гендерного понимания», может служить интимная лирика обоих художников, где представлен действительно новый и смелый для отечественной литературы того времени художественный дискурс: от откровенно субъективной, глубоко личностной авторской позиции до чувственного, эмоционального, живого языка, на котором обращаются к своей любви (и миру) мужчина и женщина. В связи с этим вспоминается полулегенда о том, что Крымский был влюблен в Лесю Украинку и даже объяснялся ей. По-видимому, это все же легенда, но фактом остается то, что он в то время ни с кем из женщин больше не общался в таком, так сказать, высоком интеллектуально-эмоциональном регистре и ни к кому из них не относился с такой искренностью и доверием. Они действительно были, говоря словами писательницы, обращенными к сестре Ольге, «родными по духу».
Очевидно, именно обозначенный уровень родства людей одного поколения стал надежным залогом реализации грандиозного проекта перестройки новой Украины, ее современной, полноценно вписанной в мировую культуры. В этом сложном процессе, теоретическую парадигму которого обосновал М. Драгоманов, художественной элите того времени приходилось, образно говоря, воевать на всех фронтах: заниматься общественно-политической, просветительской, агитационной и т. п. общественной работой, а также писать научные и публицистические студии, переводить, в конечном итоге давать незаурядной художественной ценности оригинальные произведения, а в случае писателей, то еще и отрабатывать для них язык и правописание. И все это происходило под постоянным внешним (имперским) давлением и внутренней (со старшим поколением) конфронтацией, ценой собственных средств, времени, здоровья, в конечном итоге, жизни и без определенной надежды на близкий, зримый успех.
Параллельно с тем, как в 1895 году молодая Леся Украинка отослала упоминавшееся в начале этой студии открытое «Письмо к товарищам...» («Лист до товаришів...»), она в частном порядке написала М. Павлику. В том, письме есть красноречивые, поражающие слова, которые здесь обязательно стоит вспомнить, ведь сказаны они без пафоса и экзальтации: «І я і всі мої товариші, певне, роковані на марну згубу, та й нехай би, якби з того просвіток був комусь...». Хочется думать, что здесь великая прозорливица ошиблась и ее жизнь, и жизнь ее поколения прошла не зря, потому что если это не так, то смысла не имеет не только их, но и наше собственное существование.