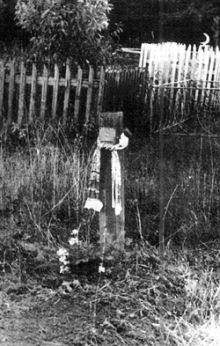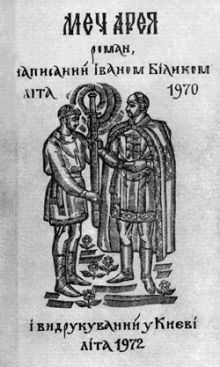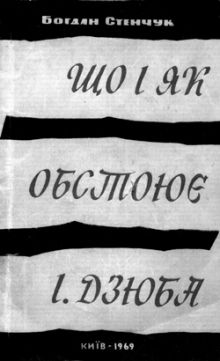В феврале 2003 г. государственная власть Украины устроила празднование 85-летия со дня рождения Владимира Щербицкого, первого секретаря ЦК КПУ в 1972—1989 годах. Инициаторы этого празднования предпочли остаться для общественности анонимами. Впрочем, в августе 2002 г. вице-премьер Владимир Семиноженко в интервью газете «День» три имени таки вспомнил: «Группа очень уважаемых людей — среди них первый президент Украины Леонид Кравчук, президент НАНУ Борис Патон, бывший глава правительства Виталий Масол — обратились к Президенту Украины с письмом, в котором выражали пожелание, чтобы роль Владимира Щербицкого в истории была отмечена. Власть, если она претендует на открытость, — добавлял уже от себя В. Семиноженко, — просто обязана реагировать на подобные обращения, хотя, возможно, было бы проще ограничиться отпиской. Тем паче, что Владимир Щербицкий — действительно историческая фигура. Даже в тех сложных условиях, когда каждую мелочь нужно было согласовывать с Москвой, он немало сделал для Украины» («День», 2002, 22 августа).
По иронии судьбы обеспечивать юбилейные мероприятия пришлось уже преемнику Семиноженко Д. Табачнику, профессиональному историку, который в 1992 г. напечатал в ж. «Вітчизна» (№№9—11) исследование о Щербицком и его эпохе под красноречивым названием «Апостол застоя». «Счет между позитивом и негативом в деятельности Щербицкого явно не в пользу первого», —делал вывод Д. Табачник. В оценках экономики УССР эпохи Щербицкого он ссылался на мнение другого историка — И. Кураса: «За период с 1961 по 1985 годы почти вдвое снизилась рентабельность предприятий. Экономика стала практически невосприимчивой к нововведениям, внедрению достижений науки и техническому прогрессу...»
К вопросу о мотивах празднования странного юбилея на государственном уровне я еще вернусь, а пока что стоит вспомнить, что забытой, пропущенной оказалась другая дата, весьма печальная для украинской литературы (и шире — для национальной духовной культуры). В 1972—1973 гг. — теперь уже более тридцати лет назад — появление на украинском политическом Олимпе В. Щербицкого ознаменовалось идеологической кампанией, направленной против УБН, — «украинского буржуазного национализма». Фрагментом этой кампании был грубый разнос целого ряда произведений украинской литературы, появившихся на рубеже 1960— 1970 гг. Их авторами были О. Гончар, И. Билык, Р. Федорив, Р. Иваничук, С. Плачинда, Е. Гуцало, И. Чендей, Р. Андрияшик, В. Дрозд и др. Об этих эпизодах и пойдет речь ниже.
МАЙ 1972 г.: ПЕРЕМЕНЫ НА УКРАИНСКОМ ОЛИМПЕ
Владимир Щербицкий появился на высшей иерархической ступеньке УССР в мае 1972 г. На должности первого секретаря ЦК КПУ он сменил Петра Шелеста, который стал жертвой политической интриги, срежиссированной Брежневым. Брежнев хотел видеть руководителем Украины земляка-днепропетровца, своего ставленника. В 1964 г. Шелест, по сути, был его сообщником в заговоре против Хрущева, но теперь времена изменились. Брежнев не хотел повторить судьбу Хрущева, поэтому избавлялся от лидеров, которые хорошо знали о технологии его прихода к власти и даже потенциально могли представлять для него какую-то опасность. Бывшего шефа КГБ Владимира Семичастного, сыгравшего заметную роль в свержении Никиты Сергеевича, он отправил из Москвы в Украину (1967 г.). Шелеста же, который пользовался в республике немалым авторитетом, забрали в Белокаменную, где для него подготовили «почетное» место заместителя председателя Совета Министров СССР. Наверное, кроме мотивов, связанных с укреплением личной власти Брежнева, эта комбинация стимулировалась также абсолютно дремучими представлениями кремлевских вождей о национальной политике, особенно об Украине и украинском. В своих мемуарах П. Шелест часто вспоминает о «бешеном шовинизме» Шелепина, Суслова, Демичева, Косыгина, которые на заседаниях президиума ЦК КПСС договаривались до того, что уважение к Шевченко среди молодежи — это проявление национализма; что «украинский язык — это испорченный русский», что «на Украине слишком много разговаривают на украинском и что даже вывески на магазинах и названия улиц написаны на украинском языке».
Петр Шелест на таком фоне кому- то тоже мог показаться «националистом». В воспоминаниях он рассуждает на тему расширения прав республик, беспокоится о том, что «некоторые украинцы не знают историю своего народа», эмоционально реагирует на призывы к «слиянию наций, культур и языков», возмущается тупоголовостью нового руководителя КГБ УССР Федорчука, который, подозревая всех и вся в недостаточно активной борьбе с национализмом, установил «контроль за советскими и партийным активом», поскольку — внимание! — «никакой Украины в нашей работе нет». Шелест с удовлетворением фиксирует успехи в строительстве этнографического музея Украины, мемориала в честь Запорожской Сечи, радуется находкам археологов, раскапывающих скифские могилы, фиксирует резюме своих разговоров с О. Гончаром, Д. Павлычко, С. Параджановым, В. Некрасовым, Н. Бажаном, реагирует на языковые проблемы и пытается понять логику и аргументы И. Дзюбы; вспоминает, как политбюро ЦК КПУ в полном составе смотрело на Киностудии им. А. Довженко фильм «Белая птица с черной отметиной», впоследствии получивший первую премию на московском фестивале…
Но здесь я позволю себе упомянуть по-своему крылатые слова Михаила Юзефовича, известного киевского украинофоба, который с энтузиазмом доносил на ближних, когда жандармы громили Кирилло-Мефодиевское братство, а еще спустя тридцать лет изрядно постарался, чтобы появился Эмский указ. «Малороссы никогда не ставили родину (то есть Украину. — В.П. ) выше отечества (то есть Российской империи. — В.П. )», — говорил Юзефович. Здесь речь идет о двух патриотизмах: сентиментальной привязанности к своему, «малороссийскому», со всеми его историко-культурными особенностями, — и, с другой стороны, о державном чувстве. Эти два патриотизма давали о себе знать и тогда, когда речь шла об отношении определенной части украинцев к Украине и к СССР. Петру Шелесту, судя по всему, не были чужды сентиментальные национальные чувства, — и в то же время он вполне искренне удивлялся: «Я действительно провожу линию Москвы. А как же может быть иначе?» Неудивительно, что уже в октябре 1990 г., во время студенческой «революции на граните» в Киеве, он из московской больницы прислал в газету «Правда Украины» письмо, в котором два его патриотизма сошлись в конфликте: представить Украину вне Советского Союза Петру Ефимовичу было не дано даже на склоне жизни, в обстоятельствах, когда история СССР завершалась. Если бы Эрнсту Неизвестному пришлось делать памятник Шелесту, то ему, по-видимому, понадобилось бы не меньше белого и черного камня, чем для памятника Хрущеву на Новодевичьем кладбище. В Шелесте было много от его эпохи и ее вождей. Тайный критик Брежнева, прагматик со здравым смыслом, который иногда, когда Петр Ефимович оставался наедине с собой, склонял его даже к политической «ереси», он, по большому счету, был вылеплен из той же идеологической глины, что и Брежнев. Жил теми же ортодоксальными представлениями о социализме, о партийной дисциплине, интернациональном долге… В старости каялся, что участвовал в заговоре против Хрущева. Упрекал Брежнева, что тот в 1968 г. довел дело до оккупации Чехословакии, но ведь и роль его самого в тех событиях была далеко не последней. Верил, что партийные органы могут «заботливо воспитывать новых поэтов». Вполне искренне боролся с тем же украинским национализмом. Радовался, когда Дмитерко, Коротич и Подоляк по его заданию написали «хорошую статью против концепции Дзюбы»… А что сам попал в «националисты», — ну, так это тот далеко не единственный в истории случай, когда жертвой системы становится как раз тот, кто ее же и взлелеял.
Владимир Щербицкий был свободен от части тех противоречий, которые были присущи Петру Шелесту. О двух патриотизмах в его случае говорить сложно. Уже через несколько месяцев после избрания первым секретарем ЦК Щербицкий подписал письмо, которым повелевалось изъять из всех библиотек книгу Шелеста «Україна наша Радянська» — как «вредящую делу интернационального воспитания трудящихся». Тогда же, день в день, появился заказной вывод «экспертов», руководителей нескольких академических учреждений, — М. Шамоты (директор Института литературы), Б. Бабия (академик-секретарь Отделения экономики, истории, философии и права АН УССР), А. Шевелева (заместитель директора Института истории), которые констатировали, что автор книги с подозрительным названием «Україна наша Радянська» (кое-кому в ней виделась даже скрытая аббревиатура — УНР, не больше и не меньше!) допустил серьезные «идейные ошибки». Перечень этих ошибок в вердикте Шамоты и К 0 начинался с того, что в книге Шелеста якобы «чрезмерно много места отводится прошлому Украины, дореволюционному периоду», к тому же прошлое отражено без должного «классового анализа». В том же духе было выдержано и специальное постановление ЦК, а также статья в журнале «Коммунист Украины» (апрель 1973 г.), текстуально очень близкая к выводам «экспертов».
«ИДЕАЛИЗАЦИЯ ПАТРИАРХАЛЬЩИНЫ» ИЛИ БУНТ ПРОТИВ ЯНЫЧАРСТВА?
Я так подробно останавливаюсь на всех этих якобы персональных делах вождей, на документах и публикациях, потому что без них сложно представить хронику текущих событий в украинской литературе того времени. Если уж идеологические нагоняи по поводу «идеализации украинского казачества», ошибочного освещения истории Запорожской Сечи, недостаточного акцентирования «благотворного влияния русской культуры на формирование и развитие украинской литературы, искусства, музыки» посыпались на голову вчерашнего, казалось бы, неуязвимого партийного лидера республики, то что, какие слова и проклятия оставались на долю украинских писателей?! В письме Шамоты, Бабия и Шевелева, как и в статье журнала «Коммунист Украины», три писателя были упомянуты: Р. Иваничук, С. Плачинда и И. Билык. Инкриминировалась им «идеализация патриархальщины». Дескать, все они приукрашивают прошлое, да еще и противопоставляют это прошлое современности!
Это — рефрен в идеологической риторике того времени, но и в литературной критике также, поскольку ей, критике, отводилась роль идеологической плети. Об этом напоминало и постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», принятое в январе 1972 г. Культивировалась атмосфера нетерпимости, подозрительного, опирающегося на догмы поиска врагов, в том числе и внутренних. Эстетические критерии поглощались политико-идеологическими. Призыв «разоблачать идеологию и практику национализма и сионизма», не допускать «либерализма в оценке творчества отдельных литераторов и художников» и в то же время усиливать «идейно-воспитательную работу среди творческой интеллигенции» звучал как заклинание. Эти слова взяты из одного из докладов В. Щербицкого 1972 г., однако подобная риторика, подогретая 50-летием СССР, была ежедневным ритуалом. Заклинания знаменовали утверждение своеобразного шаманства, ритуализацию жизни.
Критика всего, что имело хоть какое-то отношение к «патриархальщине», звучала и раньше, особенно в связи с романом О. Гончара «Собор», опубликованном еще в начале 1968 г. В 1972—1973 гг. «Собор» уже не столько ругали, сколько замалчивали. Зато «покатилась лавина», которая должна была подмять многие другие произведения, в которых речь шла об украинском прошлом. Коллизия все-таки существовала: в украинской литературе весьма пронзительно звучал мотив предостережения от опасности духовного янычарства, потери исторической памяти, — и это выглядело как ересь, поскольку официальный ритуал требовал отсечения части национальной истории или же такую «классовую» ее интерпретацию, которая выглядела как полный абсурд. Монографию Леонида Махновца «Григорий Сковорода», например, упрекали в «невысоком идейно-научном уровне» на том основании, что автор «не руководствуется четкими критериями в вопросах о ликвидации Запорожской Сечи», поскольку пишет «об уничтожении Екатериной II «славной Запорожской Сечи». Но ведь, писали Алексей Гончар и Мирослав Гончарук, во второй половине XVIII в. Сечь уже была «историческим пережитком»! Следовательно, во-первых, не была уже «славной», а во-вторых, хоть оппоненты Леонида Махновца и добавляли, что императрица исходила «из полностью определенных классовых интересов», все равно: не такая, видно, уж и плохая это штука — разрушение «исторического пережитка» («Советское литературоведение», 1973, №6).
Это уже значительно позже с легкой руки Ч. Айтматова в активный публицистический обиход войдет понятие «манкуртизм» как синоним исторического беспамятства. Но ведь и в повести Р. Федорива «Турецкий мост», и в романе Р. Иваничука «Мальвы», и в эссеистике С. Плачинды и Ю. Колисниченко «Неопалимая купина», и в некоторых произведениях Б. Олийныка отчетливо слышался духовный бунт против все того же манкуртизма! Жесткость моральных императивов в литературе появлялась как ответ на вызовы далекой от гармонии действительности. Роман «Мальвы» Р. Иваничука сначала должен был называться «Янычары». И дело, разумеется, не только в том, что в его сюжете значительное место занимает история султанской пехотной гвардии «йени-чери». Мотив янычарства у Иваничука наполнен нравственным содержанием. Одиссея украинской Марии, проданной вместе с дочерью и двумя сыновьями в рабство к ордынцам, выписана так, что сам этот образ становится символом исторических лишений Украины. Р. Иваничук, опираясь как на исторические документы, так и на опыт фольклора (истории реальной Роксоланы и легендарной Маруси Богуславки отражаются в «Мальвах»!) создал роман-балладу, в котором драматизм событий сочетается с эпичностью изложения и одновременно с глубоким лиризмом. Мария хочет любой ценой вернуть детей в Украину, но для этого ей нужно какое-то волшебное евшан-зелье, ведь теперь она жена хана Ислам-Гирея и янычарская мать. Тема отступничества и исцеления искалеченных душ прозвучала в «Мальвах» необычайно пронзительно.
Похожий мотив есть и в повести Р. Федорива «Турецкий мост», которая завершалась пронзительной вставной новеллой о предателе — гетмане-неудачнике Юрасе Хмельницком, который теряет и отцовскую славу, и украинскую волю, и собственную душу. В повести Р. Федорива легко заметить избыток публицистики, особенно в монологах, репликах и письмах учителя истории Василия Доброчина, который проповедует «сыновнее чувство родной земли» и отрицает нехитрую житейскую философию «перекати-поля». Авторские интенции имеют высокий эмоциональный градус, и иногда это оборачивается патетикой. Инженер Богдан Доброчин, занятый строительством Бурштынской ГЭС, конечно, достойно перенимает от отца-учителя духовную эстафету; высокий стиль в патетических сценах резко контрастирует со стилем низким, когда речь идет о равнодушном к «истокам» заработчанине Тимке Шершуне; в устах колхозного кузнеца цыгана Тодорка вдруг появляется реплика о «субчиках из Пентагона» — все это может вызвать и улыбку. Однако в повести есть и то, что перекрывает определенную прямолинейность художественных решений и дань (возможно, и непроизвольную) «правильным» соцреалистическим образцам. Проза Р. Федорива тяготеет к фольклорной поэтике, в ней — прежде всего в разделе о Юрасе Хмельницком — вдруг вполне органично выплывает историческая песня, дума с характерной ритмикой, символикой, рефренами. Это проза неожиданных сближений отдаленных исторических времен и острых моральных альтернатив и императивов. Отступничество Юрася наказывается так, как велит фольклорная традиция: его череп не принимает земля. И даже гаремная девушка Онисия презирает оборотня. «Турецкий мост» — проза дидактическая, с черно- белым разделением тонов, но это потому, что Р. Федорив строит свою повесть на притчевой основе. Весьма интересна в ней коллизия, связанная с фигурами гетмана Юрася и поэта Якима Доброчина, которому Богдан Хмельницкий завещал «бути сумлінням, голосом поспільства» около его сына, говорить молодому гетману правду и оберегать от искушений. Оппозиция «власть — художник» у Р. Федорива — это оппозиция суетного и вечного. Моральное оппонирование поэта гетману завершается в повести трагически: слабый (Юрий) убивает сильного (Якима Доброчина), но побеждает все же не он. «Если поэтов казнят правители, то и под владыкой трон шатается», — говорит перед смертью Яким. Интересно, как эти слова героя «Турецкого моста» воспринимались тогда, когда повесть только появилась на страницах журнала «Дніпро»? Власть же тогда охотно отправляла «невоспитанных» поэтов в мордовские лагеря…
«ИМЕННО ТОТ» АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ
Свою роль в идеологическом обосновании беспрецедентной «охоты» на произведения об историческом прошлом Украины сыграла напечатанная в «Литературной газете», а потом молниеносно перепечатанная «Литературной Украиной» статья Александра Яковлева «Против антиисторизма» (ноябрь 1972 г.). Ее автор, доктор исторических наук, — это «именно тот» Яковлев, которому через каких-то 13 — 15 лет, в горбачевские времена, достанется роль «архитектора перестройки». Тогда же, в 1972 г., он полемизировал сразу с двумя группами оппонентов — сторонниками «глобального космополитизма» и с певцами «патриархальной России», «неопочвенниками». Вторым досталось даже больше, чем первым. По сути, статья А. Яковлева «Против антиисторизма» возвращала литературную (и не только литературную!) мысль к старым полемикам между западниками и славянофилами, только теперь аргументация искалась А. Яковлевым в арсенале марксизма- ленинизма. «В классовом обществе нет и не может быть единого для всех «национального самосознания», — утверждал А. Яковлев, хотя реальная история могла бы тысячу раз опровергнуть подобный постулат. В конкретной полемике с В. Солоухиным, В. Кожиновым, А. Солженицыным, А. Ланщиковым, Б. Егоровым автор статьи «Против антиисторизма», вполне возможно, и был прав: русское «неопочвенничество» конца 60 — начала 70-х гг. таки нуждалось в критическом взгляде на себя, — но причем здесь Украина? Тем временем ортодоксальная методология, а также решительные предостережения А. Яковлева об «опасностях мелкобуржуазного национализма», его критика «концепции «истоков» механически переносились на украинскую литературную реальность, только в еще более ортодоксальной, идеологически- бредовой версии.
Единственный украинский пример, на который ссылался А. Яковлев, — это роман И. Билыка «Меч Арея»: «Иван Билык, стремясь как можно больше прославить мифического киевского князя Богдана Гатила, договорился до того, что объявил, якобы под этим именем выступал вождь гуннов Аттила». Роман Билыка был издан в 1972 году. Писателя, как об этом он писал впоследствии, увлекла концепция современника Пушкина А. Вельтмана, автора книги «Аттила и Русь IV—V столетий», который считал, что Аттила был не «сыном степных улусов», а «великим русским князем». Малоизвестный труд А. Вельтмана появился в печати в 1858 г., на склоне эпохи романтизма, а ее автор (как и Юрий Венелин, который пытался обосновать славянскую теорию гуннов еще до Вельтмана) своим исследованием отдавал дань распространенному тогда славянофильству. Историки более позднего времени — от, скажем, нашего М. Грушевского до Льва Гумилева включительно — к славянской теории гуннов отнеслись скептически, считая ее детской комнатой исторической науки. Грушевский признавал разве что существование некоторых подробностей, которые «могут указывать на славянские элементы в государстве Аттилы». Гумилев же пишет о гуннах как могущественных кочевниках, которые с середины II в. с просторов Монголии потянулись на Запад, достигнув Волжско-Уральского региона. Позже они покорили Европу. «Государство Аттилы» имело огромные территории — от Рейна до Кавказа и от Дуная до островов на западе Балтики.
О работе А. Вельтмана современный украинский историк пишет, что ее можно рассматривать «не как научное исследование, а как культурно историческую памятку определенной идеологии», то есть славянофильства (Гороховский Е. Аттила — бич Божий: историческое лицо и культурологический феномен. — Хроника-2000. — К., 1996. — С.62). Но стоило ли отказывать романисту И. Билыку в праве отнестись к работе А. Вельтмана как к источнику увлекательных исторических фантазий?
ПОТЕРИ
Примеров повышенной бдительности к исторической прозе на заре эпохи Щербицкого очень много. Но в ходе кампании 1972—1973 гг. подозрительное отношение проявилось также к произведениям, в которых вставала трагическая правда войны («Мертвая зона» Е. Гуцало, «Батальон не обмундированных» Д. Мищенко), или же непростые события на западноукраинских землях («Полтва» Р. Андрияшика, повесть И. Чендея «Иван», повести Б. Харчука). Ю. Ярмыш, скажем, «выстрелил» со страниц «ЛУ» по нескольким детским произведениям Б. Харчука статьей с характерным названием «Вопреки жизненной правде» («Литературная Украина». — 1973. — 18 сентября), в которой, в частности, указывал на то, что название одного из них — «Повстанческий конь» — намекает на Украинскую повстанческую армию. Прошло несколько недель, и к Ярмышу присоединился Ген. Коновалов («Антиисторические упражнения Б. Харчука». — «Литературная Украина». — 1973. — 18 декабря).
Так же подозрительно относилась ортодоксальная критика и к поискам оригинальных художественных форм, неожиданным стилевым решениям. Это уже в 1984 г. Н. Жулинский мог написать, что «Хроника города Ярополя» Ю. Щербака — это «причудливо ироничная, фантастически-гротескная повесть в новеллах», которая «воспроизводит реальные события жизни воображаемого небольшого украинского городка. Но богатая фантазия писателя рождает своеобразные экскурсы в «машине времени» в далекую и близкую историю, в прошлое и будущее добра и зла, гуманизма и варварства, реализует неожиданные научные теории и фантастические проекты... Все эти сказания, легенды, мифы вместе с причудливыми историями малопримечательного города моего Ярополя», написанные якобы в 2000 году очевидцем на склоне лет, появились из-под пера Юрия Щербака тогда... когда велись активные поиски новых форм и средств изображения человека и мира» (Жулинский Н. Закон сохранения добра //Щербак Ю. Знаки. — К., 1984. — С. 11—12). А вот после 1968 года, когда «Хронику города Ярополя» напечатал журнал «Вітчизна», повесть эта долго не могла выйти отдельной книгой. Как и роман В. Дрозда «Катастрофа», в котором писатель художественно исследовал психологию едва не маниакального эгоизма, весьма интересно используя возможности внутренней речи, что свидетельствовало о творческом усвоении им опыта как М. Коцюбинского, так и западноевропейской прозы...
Последствия кампании 1972— 1973 гг. были драматичными для украинской литературы. Они означали:
1. Табуирование определенных тем, связанных с прошлым Украины, явлений и фигур в литературе. Особенно активно искоренялось все, что официальным языком квалифицировалось как «идеализация казачества». Каким-то образом тогдашние гонения (к счастью) обошли историческую романистику П. Загребельного: в 1974 году он даже получил Шевченковскую премию за романы «Первоміст» и «Смерть у Києві».
2. Подмену функций литературной критики, сведение их к идеологическому надзору над литературой. Востребованными становились такие одиозные персонажи. как М. Шамота, Л. Санов, М. Равлюк.
3. Поощрение соцреалистических банальностей, собственно — квази-литературу. Кремлевской власти нужна была Украина «без лица», поскольку — как это уже было во времена «расстрелянного возрождения» — национально-культурный подъем мог вызвать к жизни и национально-политические мечтания.
4. Поломанные творческие судьбы. «Неопалимая купина», книга беллетризованных сказаний С. Плачинды и Ю. Колисниченко о Роксолане, Гулевичивне, Феофане Прокоповиче, Максиме Березовском, Артеме Веделе, «по решению ЦК КПУ была запрещена, изъята из книготорговли и библиотек, — писал в 1993 г. С. Плачинда. — Агенты КГБ даже похищали ее экземпляры из частных библиотек» (Плачинда С. Послесловие ко второму изданию //Плачинда С., Колисниченко Ю. Неопалима купина. — К., 1993. — С.278). Самого же С. Плачинду уволили с работы и на долгие годы лишили права печататься. Вынужденное творческое молчание наступило и для Ивана Билыка, Романа Андрияшико (после его романа «Полтва»), Лины Костенко, Вал. Шевчука. Для одних это обращалось затяжной и убийственной в творческом смысле депрессией, кто-то вынужден был переходить на «сверчковую ноту» или же срочно переключаться с беспокойной истории на пафосную современность.
Украинская литература того, не такого уж и далекого времени была под колпаком партийных органов и «литературоведов» из спецслужб. Сектор литературы был подразделением идеологического отдела ЦК КПУ. Отвечать за идеологию в УССР В. Щербицкий в октябре 1972 г. назначил Валентина Маланчука, который «отличился» как архибдительный могильщик всего живого в украинской литературе. К литературным погромам активно привлекались «трудящиеся». В 1972 г. были арестованы литераторы-правозащитники — В. Стус, И. Свитличный, Е. Сверстюк, Ирина и Игорь Калинцы и многие другие. За художественные произведения отправляли в лагеря. Тогда же было сфабриковано дело на «Кола Брюньона украинского кино» Сергея Параджанова, который попал в Лукьяновку, а потом в тюрьму под Винницей. Перед очень непростым выбором оказался И. Дзюба, который вынужден был публично объяснять свою непричастность к «украинскому буржуазному национализму», и это выглядело как раскаяние. «Судебные процессы 1972—1973 годов на Украине — это суды над человеческой мыслью, над самим процессом мышления, суды над гуманизмом, над проявлениями сыновней любви к своему народу», — писал В. Стус в публицистическом письме 1975 года «Я обвиняю».
Все эти драматические события достигли своей кульминационной точки именно после прихода к власти В. Щербицкого, чье 85-летие в прошлом году отмечала государственная власть Украины. Вряд ли это обуславливалось неполнотой знаний об эпохе Щербицкого. Скорее, имеем факт самоидентификации этой власти. Она отдает ритуальную дань уважения М. Грушевскому и героям Крут, однако между премьер- министром эпохи УНР Владимиром Винниченко и первым секретарем ЦК КПУ Владимиром Щербицким выбирает Щербицкого, ибо ностальгирует по тому, что понятнее и ближе. Тем самым фиксируется родословная. Украинское же общество на такую «амбивалентность» реагирует на удивление вяло...