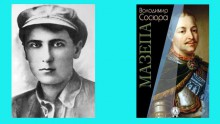Когда в киевском журнале «Життя і революція» (1929 №1) печатались первые четыре главы поэмы Владимира Сосюры «Мазепа», сам ее автор вряд ли мог представить, что творческая история его поэмы растянется на три с лишним десятилетия. А получилось именно так: завершал Сосюра своего «Мазепу» уже во времена хрущевской оттепели (1959—1960).
Долговременные перерывы в работе над поэмой не способствовали, конечно, ее композиционной на концептуальной слаженности. В большом по объему произведении, которое состоит из пролога, 26 разделов и эпилога, неоднократно наталкиваешься на внутренние противоречия (особенно, когда Мазепа — старый гетман и Мазепа — молодой королевский паж слишком стремительно, неожиданно меняются местами), однако все же поэма Сосюры заслуживает внимательного прочтения, тем более — в контексте большой литературной Мазепианы.
В ней чувствуется байроновский отголосок. Неординарный герой Сосюры — фатальный любовник, опытный сердцеед, который умеет влюблять в себя женщин, однако, распалив их страсть, сам быстро теряет интерес к каждой следующей добытой вершине, — такой Мазепа временами напоминает гордых затворников Байрона, которые (как Чайльд-Гарольд) знают, что такое «холодная скука», пресыщение, недовольство миром и поиск новых рискованных испытаний. Мазепа Сосюры, о котором сказано: «Він дарував на мить любов /І знов, байдужий, далі йшов», — также немного Чайльд-Гарольд. Видим его сначала в Варшаве, в роли королевского пажа, который наслаждается многочисленными любовными приключениями и угодничает королю, также желающего греха. Сосюра дал себе полную волю: Мазепа в его поэме показывается как искусный соблазнитель, а любовно-эротичные сцены выписаны так вдохновенно, что поневоле вспоминаешь мемуары поэта «Третья Рота», в которых с тем же «фирменным» Сосюринским простодушием и откровенностью рассказывается немало преисполненных страсти историй.
Поэт так увлекается, что порой даже теряет меру и вкус, особенно в сцене, когда престарелый король, испытав мужскую неудачу с целомудренной Юзей, жалуется: «У мене з Юзею не теє...» — и просит у своего пажа помощи! Мол, пусть тот будет первым, а затем уже и он сам, король, приобщится к «скоромным» утешениям.
Любовным приключениям, поэтому, уделено много, очень много места. Хотя казалось, что вот-вот в поэме появится и новый мотив: Мазепу испытывает тоску по «голубой Украине» и еще несознательный зов булавы. Сосюра несколько раз рисует вещие сны Мазепы, в которых ему представляется будущее; является призрак Мотроны Кочубей, и в тех виденьях есть что-то зловещее.
Но время «чайльд-гарольдовского» паломничества Мазепы в родной край еще не наступило. Его еще ожидает соперничество с ревнивым паном Брониславом, который пытается отвоевать у «Дон Жуана с Украины» свою Зосю; еще будет между ними поединок на саблях; еще в тот момент, когда жизнь покидает Бронислава, вдруг вынырнет неведомо откуда девушка с Украины, которая голосит по убитому, потому что любит его, — и мы с удивлением узнаем, что та девушка — «будущая женщина Кочубея»! (Трактовка образа Кочубеихи в поэме Сосюры вовсе нестандартна, об этом еще будет идти речь).
Мазепа — ранен; в полубреду-полусне он теперь видит мать, игуменью в одном из киевских монастырей; в смутных наплывах памяти проплывают картины детства. Этот момент очень важен: становится понятно, что уже сызмальства Ивану заложено в сердце горячее патриотическое чувство, искреннее переживание за Украину. «Вкраїну полонив поляк /І, наче оводи ті злі, /Її обсіли москалі...» — и мальчик мечтает, что наступят другие времена, когда «зацвіте Вкраїна-мати». Получив материнское благословение быть «оборонцем України», он преисполнен жажды свободы и славы, внутренней силы и готовности выйти на «страшну дорогу Моїсея».
Монолог матери звучит пафосно, трибунно; Владимир Сосюра будто забыл о специфике момента (мать благословляет сына):
«Той не живе, хто жить не вміє, —
З душею темною раба.
Життя ж — це вічна боротьба!
І тільки сильними народи
Куються нації, ідуть
Крізь бурі в радісні походи,
Торують для нащадків путь...»
Слова игуменьи похожи на чеканные программные строки Ивана Франко, не так ли?
А дело в том, что авторский голос в поэме в целом очень активный. Иногда и не различишь: где Мазепа, а где Сосюра? Расстояние между ними порой очень краткое; лирически- публицистическая струя, бывает, и доминирует над эпикой.
Еще не освободившись от видений, раненый Мазепа рвется домой: «Я хочу швидше відціля — /Віддячить москалю і ляху, /Що мій народ ведуть на плаху/ Під сміх царя і короля!» Переход от поединка с ревнивцем Брониславом к восстанческо-мятежным планам, от любовного приключения к политическому пафосу мотивирован в целом, как придется, — впрочем, о композиционных «вольностях» Владимира Сосюры мы уже знаем. В 6—10 разделах он еще воспользуется известной со времен Вольтера легендарной историей о том, как Мазепу по приказанию ревнивого магната привязывают к коню и отпускают в «дикое поле». Вчерашний королевский паж попадает в плен к крымским татарам, а затем с невольницей Оксаной (конечно, влюбленной в него!) убегает за Перекоп. Оксана погибает. Мазепу же спасают запорожцы, и он становится «писарем курінним».
С 11-й главы главным в поэме становится национально-освободительный мотив. Сосюра переходит к полемике, становясь, в сущности, на сторону Мазепы («я ж українець, як і він...»). «Страшная трагедия Мазепы» была в то же время и трагедией народа, говорит поэт, и в своем понимании сути того, что случилось с Гетманщиной осенью 1708 года и после Полтавы, он приходит к таким выводам, на которые решался разве что Евгений Маланюк. Сосюра упрекает народ, который «не понял» гетмана! А не понял вот почему: «Бо помиляється й народ,/ Коли не має ще держави».
Созвучность с оценками Маланюка — удивления достойна! Автор статьи «Трагический гетман» (1923) писал о том же, о «фатальном непонимании широкими слоями украинского народа своих национальных задач в наиболее критические моменты истории нашей». Кто знает, может, Владимир Сосюра, который в 1924-м грозил издалека Евгению Маланюку («пане Маланюче, ми ще зустрінемось в бою»), — может, он, Сосюра, читал ту статью вчерашнего сотника армии УНР, написанную в лагерях для интернированных украинских воинов?
И опять-таки: где в поэме Мазепа, а где Сосюра с его переживаниями украинской катастрофы 1917—1919 годов? «Неначе градом жито,/ Були ми серед чорних піль.../Бо не могли іще робити/ Централізованих зусиль,/ Не панували в власній хаті...»? — это о Полтаве в 1709-ом или о бурных событиях, в которых принимал участие юноша из Дебальцево, который «начитался Гоголя и Кащенко», «смуглый гайдамака», перед которым в ноябре 1918-го «воскресла омріяна Україна, махнула клинком, і зацвіла земля козацькими шаблями» (см. воспоминания В. Сосюры «Третя Рота» и его поэму «Розстріляне безсмертя»)?
Как по мне, сила поэмы «Мазепа» прежде всего в могучей лирической стихии, которая пронизывает ее, в переплетении эпики и лирики, в этих неожиданных сближениях героя и автора.
У поэта есть «железный» аргумент в интересах Ивана Мазепы: гетман любил Украину («Любив Вкраїну він душею/ І зрадником не був для неї»). А любовь для Сосюры — вещь безусловная. Битый в 1951 году за свое стихотворение «Любіть Україну», он мог легко поставить себя на место преданного анафеме, проклятого Мазепы, проникнуться его драмой. Очевидно, такая созвучность судеб становилась эмоционально-психологической почвой солидарности поэта с гетманом, солидарности, которая побуждала его вспоминать построенные Мазепой церкви, Киевскую академию, шире — достижения культуры, которая «в нас цвіла». В таких исторических отступлениях есть что-то больше чем знания — тоска по утраченному, запоздалая гордость, нотка раскаяния перед поруганной памятью о Мазепе...
Он и с Пушкиным, с его «Полтавой», спорит не тоном историка, а как-то очень «частно», эмоционально, — так бывает тогда, когда задето что-то лично тебе дорогое и важное: «О Пушкін, я тебе люблю,/Та істину люблю еще дужче!» Сосюре более близок Рылеев с его «Войнаровским». И, конечно, Шевченко (который тоже не любил пушкинскую «Полтаву», добавляет поэт).
Правда, все было непросто и во времена хрущевской оттепели. На теле поэмы есть «бородавки», и вот одна из них: «Я ж українець, як і він, /Дитя Комуни світової,/Я партії своєї син...» Подобные самоаттестации — вынужденные; автору необходимо было предварительно застраховаться от возможных обвинений в «национализме», «перекручиваниях», «непонимании» и тому подобное.
Может показаться странным, но после полемического 11 раздела поэт опять возвращается к любовным приключениям Мазепы, только теперь уже не варшавским, а белоцерковским (хотя в действительности они должны были бы быть батуринскими). Фантазия его безгранична: любовницей гетмана теперь оказывается... Кочубеиха! И не только она, но и Мотря, которую — не поверите — жена генерального судьи Василия Леонтиевича Кочубея родила от Мазепы! Шекспир «отдыхает»: мать Гамлета, как помним, была любовницей убийцы своего мужчины, а у Сосюры интрига еще круче — Мазепа влюбляется в собственную дочь (свою крестницу)! И Кочубеиха начинает ревновать Мазепу к Мотре! Ревнуя же, натравливает своего мужа, чтобы тот отплатил гетману, написав царю, что Мазепа «проти Матері-Росії/Готує тайно повстання»...
Перебор? Бесспорно. Правда, об интригах Любови Кочубей и ее роли в истории с доносами генерального судьи, пишут и историки. Татьяна Таирова-Яковлева, например, считает, что Кочубеиха была «своенравной и истеричной» женщиной со скандальным характером: «Любовь явно руководила своим мужем, и наверняка разжигала его амбиции...» (см.: Таїрова-Яковлева Т. Мазепа. — М., 2007. — СС.137, 165).
Поэт, однако, превзошел историков. Мотрю любит еще и «красавец Искра», и это он отвозит царю «литературное» творение Василия Кочубея. А заканчивается все казнью обоих в Борщаговке — и Искры, и самого Кочубея. Сосюра не упустил возможность изобразить эту кровавую сцену в специальном разделе, к тому же — в готическо-романтическом, с элементами мелодрамы, ключе.
Еще один герой поэмы — Семен Палий. У Сосюры он предстает как патриот Украины и России в то же время: («Тому й люблю тебе, Вкраїно,/Що ти й Росія — це одно!»). Автор упрекает Палия в том, что тот поневоле подыграл «Петру лихому» во вред Украине. Хотя мог бы стать новым Полуботко... В такой оценке Семена Палия чувствуется отголосок Шевченкових упреков в адрес «фастовского полковника», которому не хватило готовности «одностайно стати», объединившись с Мазепой...
Наверняка, не без «диалога» с Шевченко появилися в поэме В. Сосюры и картины жестокой эксплуатации казаков во время строительства российской столицы на Неве. Пружина сжимается; терпение Мазепы и унижение гетмана Мазепы достигают критической черты. Он уже начинает думать о переходе на сторону шведского короля и в итоге призывает старшину к «смертному бою» «за нашу націю нещастну», за утраченные вольности. Политический расчет Мазепы, вероятно, именно таким и был: «Хай перше Карл Петра поб’є,/ Й йому, ослаблому, мы будем,/Мої братове, добрі люди,/Козацьку волю диктувать»...
Учитывая каноны советской историографии и пропаганды, Сосюра конца 1950-х — абсолютный еретик! И хотя еретика подчас толкает в сторону осторожный внутренний цензор, все равно: поэт явно выходит за пределы возможного. Да, он временами спохватывается — и заводит речь о том, что старшина и гетман забыли о народе, который, мол, «останнє скаже слово» (хоть мы уже знаем, что «ошибается и народ»). На теле поэмы появляються новые «бородавки»: «Мазепу/прокляв, як зрадника, народ/Й на нього свій обрушив гнів...» (ХХІІ раздел). Да и вообще: ХХІІ раздел словно какая-то другая рука писала. Это плакат в честь Палия, который «встав за віру православну,/За рідну землю і церкви,/Щоб записать сторінку славну/В єднанні Києва и Москви...» Более того: плакат глорифицирует и «юні полки» Петра I, «Петра могуть», а Мазепу — осуждает («вся Вкраїна проклинає...»).
В том же — официальном — ключе изображена и битва под Полтавой. Только как же, спросим, полемика поэта с Пушкиным? А никак. Имеем мерцание значений, противоречия и несогласованности автора, который, в конечном итоге, все же не в силе удержаться от стона и крика: «А з боку Карла і Петра/ Вкраїнці б’ються до загину. Який це жах! Який це жах!»
Как сказал бы Мазепа: «Самі себе звоювали...»
Ощущение ужаса остается, честно говоря, и от распахнутости авторского «Я», которое то солидаризировалось с тополями, которые провожают казаков Мазепы за Днестр («Пощо ви, діти України,/Тікаєте до чужбини? Одної матері сини?»), то вдруг благодарит «русского брата» за то, что помог Украине в 1709-м, а потом еще и в 1917-м, «в дни жовтневої відплати», когда «упало в прах ярмо прокляте».
Как это все соединить: плач над разоренным Батурином, где «з наказу Меншикова діло/У тьмі робилося страшне», и через несколько строк — «правильне», выдержанное в духе теории классовой борьбы, признание от имени лирического «Я» в любви к «великому нашему русскому брату»: «Люблю я гордий люд Росії,/ І не люблю вельмож його»?
Реальный трагизм украинской истории гасится «ритуальным» пафосом, хотя... хотя огонь горькой правды все равно неоднократно проблескивает из-под пепла...
Поэма завершается покаянными размышлениями побежденного Мазепы и напряженным воспеванием якобы завоеванной уже «в дни октябрьской отплаты» воли Украины. Карл ХІІ возвращается в Швецию. Турецкий паша, неожиданно появившись в финале, ни с того ни с сего напоминает о том, как «северный титан» (Петр I) оконфузился во время Прутского похода 1710 года, спасшись от плена и смерти лишь тем, что «від турків відкупився». Мазепа жалуется, что «мій народ» отвернулся от него, «що він ніколи від Росії/Не зможе серця відірвать». Молдавский хозяин советует старому и больному гетману возвращаться в Украину. Однако Мазепе домой нет возврата, и он выпивает яд, который приберегал в перстне.
Однако последнее слово все же за распанаханным лирическим «Я», за муками внутренней борьбы поэта, попыткой «склеить» образ Мазепы, который раздваивается, рассыпается на куски. Финальный ХХVI раздел — это какие-то конвульсии «Я», беспорядочные шараханья «двух Володек» от одного к другому полюсу; это муки украинской души, которая ищет и не находит лада в себе самой...
Не этим ли проникновенными мучениями прежде всего и привлекает к себе поэма Владимира Сосюры через многие годы после того, как она была дописана?