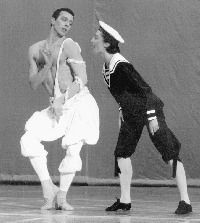Балетный критик Наталья ЗУБАРЕВА специально для «Дня» встретилась
с молодым балетмейстером после премьеры.
— Постановка в Петербурге — очень важный для меня этап.
Теперь мне предстоит новая работа в Большом театре. Пока все складывается
замечательно: мои постановки в России идут на сценах лучших театров...
Понимаю, удача — дама непостоянная. Интерес к себе надо постоянно подогревать.
Мечтаю поставить что-нибудь на Западе. Но это весьма проблематично, так
как бытует мнение, что русские ставить не умеют. Это произошло потому,
что нет современных русских балетмейстеров с мировыми именами.
— А разве Григорович, Эйфман, Виноградов, Васильев не являются
авторитетами?
— Балеты Григоровича и других русских балетмейстеров не
ставятся ни в одном западном театре, их мало кто видел. Главный же критерий
популярности — идут ли балеты того или иного хореографа в разных театрах
мира. Если этого не происходит, значит балетмейстер не интересен широкой
публике.
— К вам уже пришла популярность в России. На сцене Большого
театра идут три ваших балета — «Каприччио» на музыку И. Стравинского, «Прелести
маньеризма» Р. Штрауса и «Сны о Японии» на традиционную японскую музыку...
— «Прелести маньеризма» создавались буквально за две недели
для примы-балерины Большого театра Нины Ананиашвили и ее коллег. Наше сотрудничество
продолжилось «Снами о Японии». Работа над балетом была трудной, но безусловно
полезной для меня. Я выполнил задачу, имея конкретный сюжет и уже готовую
музыку.
— «Каприччио» Игоря Стравинского ассоциируется у многих
с хореографией Джорджа Баланчина под названием «Рубины» (частью балета
«Драгоценности»). Не страшно ли вам было состязаться с самим мистером Би?
— Я никогда целиком не видел этот балет Баланчина, возможно
потому мне было легче справиться с этой задачей. Музыка же Стравинского
увлекала меня давно.
— Какая школа классического танца, на ваш взгляд, на сегодняшний
день лучшая в мире?
— Выше всего в мире сейчас котируется французская школа
классического танца. Русская, увы, ей уступает. В ХХ веке русские танцовщики
неоднократно обновляли кровь классического балета на Западе. Начали это
Дягилев своими «Русскими сезонами» и первая волна балетной эмиграции —
Нижинский, Фокин, Павлова, Карсавина, Спесивцева, Лифарь, Баланчин, Мясин.
Продолжила их дело вторая волна эмиграции — Нуреев, Барышников, Макарова...
Перестройка позволила выезжать всем, кто хотел. Теперь русским танцовщикам
устроиться на Западе очень трудно, их воспринимают уже не так, как раньше.
— В пору работы в Национальной опере Украины вы, помнится,
были весьма недовольны качеством уроков, репетиций и организацией труда
в театре. Как обстоят дела в Датском королевском театре?
— Там с артистами проводятся великолепные по качеству уроки
классического танца. Педагоги-хореографы работают по контрактам. Иногда
для артистов проводят мастер-классы известные хореографы, приглашенные
из-за рубежа. Недавно с нами работали Борис Акимов и Виолетт Верди. Мне
очень нравилось посещать классы известного в прошлом танцовщика баланчинской
труппы «Нью-Йорк-сити-Белле», датчанина Эдана Людерса. Сейчас он, к сожалению,
покинул труппу, протестуя против того, что в репертуаре театра в этом сезоне
не идут балеты Баланчина. Единственное, что мне не по душе в Датском королевском
театре — это то, что уроки традиционно проходят раздельно для мужчин и
для женщин. Без женщин скучно!
— Как вы себя ощущаете в эстетике классических балетов
Августа Бурнонвиля?
— Мне легко было постигать классический стиль этой хореографии.
В московском училище у меня был очень хороший педагог — Петр Антонович
Пестов, который большое внимание уделял отработке мелкой техники танца.
Должен отметить, что на своей родине, в Копенгагене, Бурнонвиль совсем
не такой, каким его представляют в других странах. В театрах России и Украины
балеты Бурнонвиля идут в устаревших редакциях 70-х годов, и налет балетной
эстетики тех лет очень сильно на них сказывается. У нас исполняют хореографию
датского классика — с иными связками, в ином темпе, с иной постановкой
корпуса и рук. Настоящий же стиль Бурнонвиля — более старинный и от этого,
как ни странно, более современный. Мне он больше по душе — естественный,
подвижный, в технике исполнения отсутствует нарочитость положений корпуса
и рук. А такой очаровательной пантомимы в балетах я не видел никогда!
— Постановочная работа в Мариинке заняла у вас полтора
месяца. Не заскучал ли за это время Ратманский-танцовщик?
— Формы я не теряю. За время пребывания в Питере мне удалось
побывать на гастролях в Финляндии с московским «Имперским балетом» (художественный
руководитель Гедеминас Таранда). Я исполнял партию Альберта в балете «Жизель».
Моей партнершей была прима Мариинского театра Жанна Аюпова — превосходная
романтическая балерина. Побывал я за это время и в Турине, где в составе
труппы Датского королевского театра выступал на бежаровском фестивале.
— По душе ли вам жизнь артиста-кочевника?
— Главное неудобство состоит в том, что я не могу достаточно
времени уделять сыну.
— На кого он похож?
— Думаю, что на меня, хотя мы с Татьяной очень похожи друг
на друга. Кстати, Ваську мы с женой рожали вместе — в Дании отцы присутствуют
во время родов. Между прочим я первый принял сына на руки.
ИЗ ДОСЬЕ «Дня»
Алексей Ратманский — танцовщик и балетмейстер. Родился
в 1968 году в Ленинграде. До 10 лет жил с родителями в Киеве. Закончил
Московское хореографическое училище, а позже балетмейстерское отделение
Государственной академии театрального искусства в Москве. Работал солистом
в балетных труппах Национальной оперы Украины и Виннипегского театра в
Канаде, с сентября 1997 — в Датском королевском театре. Как балетмейстер
дебютировал в 1994 году изящной миниатюрой на музыку Рихарда Штрауса «Взбитые
сливки». Дважды лауреат премии «Киевская пектораль» — за дебют и постановку
балета «Повозка папаши Жюнье» по мотивам картин Анри Руссо на музыку Р.Штрауса
в Детском музыкальном театре. Это единственный спектакль Алексея Ратманского,
который можно сегодня увидеть в Киеве, где его способности оказались невостребованными.
Теперь как балетмейстер Ратманский плодотворно работает в России. В его
активе — 7 балетов и более десятка хореографических миниатюр. Балеты «Прелести
маньеризма» и «Сны о Японии» были представлены в 1998 год у на высшую российскую
театральную премию «Золотая маска».