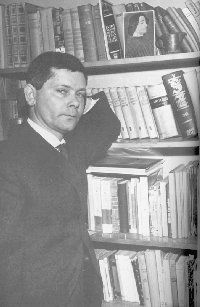В мае он издал последний сборник «Эпилог бури» — несколько десятков
стихотворений, которыми завершил литературный путь, начатый в 1956 году,
во времена политической «оттепели», сборником «Струна света».
Ему было тогда 32 и был он уже далеко не начинающим. Получил три (!)
вузовских диплома — по экономике, юриспруденции и философии, отдельные
стихотворения печатал в периодике, но книги опубликовать не мог, поскольку
не писал ни о Партии, ни о Ленине, ни о «социализме», ни о польско-советской
дружбе. Наоборот, чувствовал ко всему этому глубокое отвращение, о котором
прямо рассказал впоследствии Яцеку Тшнадлю в книге подпольно изданных интервью
«Гражданский позор»: «Послевоенный период является довольно отвратительным
разделом в истории польской литературы. Я не являюсь специалистом в порнографии
или по истории политического гангстеризма, которыми смердит та эпоха...
45-й год не означал для меня никакого освобождения, а только замену одного
оккупанта другим... Сталинский коммунизм был для меня просто иной разновидностью
фашизма. Безусловно, коммунизм имел своих святых, которых не было в фашизме,
и это существенная разница. Но методы у них были такими же самыми».
Понятно, что такой литератор, даже с тремя дипломами, вынужден был перебиваться
случайными заработками — выдавал продуктовые карточки пенсионерам в местном
«собесе», проектировал какое-то сантехническое оборудование в КБ, добывал
торф... Однако даже отдельные стихотворения, напечатные преимущественно
в «Тригоднику повшехному» (сурово цензурируемом, но все же внепартийном
еженедельнике светских католиков), не остались не замеченными наиболее
проницательными наблюдателями. Например, писатель Леопольд Тирманд в своем
дневнике в 1954 году сделал характерную запись в связи с репрессиями, которые
обрушились на активистов «Тригодника» после разгона редакции коммунистической
властью: «Свенцицкий болен и беден, ксендз Бардецкий работает в сиротском
приюте, Збигнев Херберт изготавливает в какой-то мастерской бумажные пакеты...
И все по ночам ожидают, чем это закончится и не нужно ли будет наспех упаковывать
зубную щетку и смену белья. Хотя не одно из этих имен окажется когда-то
в энциклопедиях, в школьных учебниках, в литературных и исторических библиографиях...»
Так оно и произошло. Уже в 60-х годах, после первых своих книг, с энтузиазмом
встреченных критикой и читателями, Херберт становится почти классиком,
лауреатом разнообразных национальных и международных премий, его переводят
в различных странах мира, приглашают на конгрессы, лекции, презентации.
На рубеже 60-70-х стихотворения Херберта появляются и в русских и украинских
переводах, преимущественно в антологиях и журналах, в частности во «Всесвіті».
Но стоило ему в конце 1975 года подписать вместе с другими польскими интеллектуалами
так называемое «Письмо 59-ти» (протест против дальнейшего идеологического
«закручивания гаек»), как имя Херберта в СССР становится нежелательным.
Мы не найдем его ни в двухтомной «Антології польської поезії» (Київ, 1979),
ни в «Советском энциклопедическом словаре» (1988), ни в Украинской литературной
энциклопедии (1988).
Только недавно в Тернополе небольшим тиражом увидел свет двуязычный
сборник Херберта в талантливом переводе Василя Махно, однако за пределы
Тернополя она, кажется, так и не вышла. А между тем поэт заслуживает значительно
большего внимания — и учитывая его выдающееся место в польской и мировой
поэзии (несколько раз Херберта выдвигали на Нобелевскую премию, с которой
ему, однако, повезло меньше, чем его славным соотечественникам Чеславу
Милошу и Виславе Шимборский), и учитывая его украинские корни (Збигнев
Херберт родился в Львове, где прожил свои первые 15 лет), и, наконец, учитывая
его очевидное влияние на многих молодых украинских поэтов, которые с 70-х
годов читали Херберта в оригинале.
Созданный им лирический герой — некто «господин Cogito» (сogito ergo
sum, говорил Декарт, — «мыслю, следовательно, существую») — дал образец
чрезвычайно проницательного, иронически-остроумного и в то же время отстраненно
мудрого взгляда на окружающий мир и человека в нем. «Стихотворения Збигнева
Херберта стали в 70-80-х годах молитвой моего поколения, — сказал в прощальном
слове Адам Михник. — Господин Cogito стал нашим проводником в трудные времена,
когда господствовали чудовища».
Возможно, в Польше эти времена уже миновали. В Украине прощаться с господином
Cogito еще рановато.