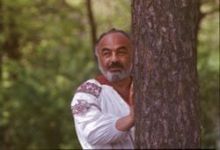Да, не юбилейная дата, но разве у нас так много художников такого уровня? Создатель фильма «Тени забытых предков» и «Цвет граната» достоин того, чтобы мы вспоминали о нем чаще...
Впрочем, не скажешь, что Параджанов остается без внимания. Последние полтора года прошли под знаком двух интересных явлений: читатели продолжали знакомиться и, соответственно, обсуждать книгу «Коллаж на фоне автопортрета. Жизнь — игра», изданной в Москве ее составителем Корой Церетели, и картину «Опасно свободный человек» киевского режиссера Романа Ширмана (в конце 2005 г. она выиграла Открытый российский фестиваль документальных фильмов в Екатеринбурге, была выдвинута на российскую, опять-таки, «Нику» и украинскую госпремию имени Александра Довженко). В обеих работах личность Параджанова рассматривается главным образом в плоскости игры, ее карнавальных проявлений. «День» обратился к сценаристу фильма, кинокритику Сергею Тримбачу с просьбой высказать свою точку зрения.
Наша украинская традиция — вспоминать ушедших с непременным трагическим надрывом: «Ой, умер же наш Іваночко, умер, бідолашка він бідолашний...» На похоронах, на поминках — понятно, но ведь поминки не могут быть вечными. Вспоминается, на одном из вечеров памяти Параджанова завели ту же шарманку — о режиссере-мученике, который жил под страшным дамокловым мечом власти, преследовался ею, о человеке, которого так жалко и которого мы так недооценили. И тут вышел Роман Балаян и в присущей ему иронично-вальяжной манере сообщил публике, что все это чушь собачья. Что если бы это все довелось услышать Сереже, он смеялся бы до упаду. Да не был он и не чувствовал себя несчастным. А с властью играл в опасные игры, чувствуя себя наравне с огромной чиновничьей ратью, которая не всегда врубалась в семантику его слов и поступков.
Когда я предложил режиссеру Роману Ширману снять фильм о Параджанове, он тут же ответил: «Так я с ним в одном доме жил! В детстве... Дядя Сережа...» И сразу набросал идей, как это может быть. В частности, предложил перевести в анимационный, рисованный ряд «новелетки» режиссера о своей жизни. Точнее, байки, на которые он был горазд. Именно так и сделали — художник Радна Сахалтуев (известный по фильмам Давида Черкасского) блестяще справился с задачей создать «комическую Одиссею», которая дополняет фантазии самого Параджанова и рассказы друзей об его выходках. А их множество. Они-то во многом и создают миф художника.
Кстати сказать, у нас под мифом нередко понимают нечто выдуманное, ложное, а то и просто фальшивое. На самом деле особенностью мифа является, на чем не раз настаивал блестящий знаток мифов и мифологий Алексей Лосев: совпадение общей идеи и самого обыкновенного чувственного образа. Иначе говоря, здесь идеальное предстает в облике вещественном, материальном, и потому воспринимается как сама действительность. В то, что является мифом, мы верим, порой больше, чем в то, что можем потрогать руками — сейчас, в данную минуту.
Большие художники, как правило, сознательно или интуитивно руководят, направляют процесс сотворения мифов о себе. Простой пример — Тарас Шевченко, о чем существует немало работ. Или Александр Довженко. Отсутствие такого мифа довольно сильно вредит художнику — массовая аудитория как бы лишена оптики, инструмента восприятия. Вместе с тем нередко жертвой мифологических историй становятся искусствоведы и критики, когда попадают в вольный или невольный плен легендарного шлейфа, окутывающего тот или иной персонаж.
Недавно на вечере памяти учителя Параджанова, замечательного режиссера Игоря Савченко («Богдан Хмельницкий», «Третий удар», «Тарас Шевченко»...), я высказал мысль о том, что своеобразной «бедой» этого режиссера было и остается отсутствие мифа. Меня строго отчитали сразу две дамы — кинокритик и киноактриса. И хорошо, что нет этого самого мифа, — услышал я в ответ, — зачем нам еще и тут копаться в грязном белье! Миф поняли как собрание сплетен... Да нет же, сплетни могут в какой-то степени способствовать созданию мифа, но это самая недолговечная его составяющая. Нужно другое — попасть в некий образ, имеющий универсальную природу...
Киновед, близкий друг Параджанова, Кора Церетели высказалась по поводу фильма так: «Какое точное попадание в Параджановский жанр (кстати, впервые)! Как много новых деталей и красок открыто этим жанровым ключем!» Жанр этот — «веселая игра-повествование». Церетели уверена: «Если бы сам Сергей решил рассказать о себе, он бы сделал это в такой форме». Упаси Бог, никакой томной (и темной) значительности, никаких заупокойных вздохов и придыхания. О веселом, живом, карнавальном человеке рассказано языком карнавала же.
Кто помнит середину и конец 60-х в Киеве — было именно так. Вокруг Параджанова образовался круг людей, разделявших мировоззренческие взгляды этого «опасно свободного человека» (выражение Балаяна). То, что назовут Украинским Поэтическим Кино, во многом было не только (а, быть может, и не столько) поэтическим. Здесь мы наблюдаем особый способ экранного повествования — обрядово-карнавальный материал закладывается в основу. Вспомните «Тени...», «Каменный крест» Леонида Осыки, «Вечер на Ивана Купала» Юрия Ильенко, «Пропавшую грамоту» Бориса Ивченко, «Вавилон ХХ» Ивана Миколайчука... А до этого фильм Марка Донского «Дорогой ценой» (1957), по одноименной повести Михаила Коцюбинского (в подобном ракурсе и рассматривает картину московский киновед Евгений Марголит). При этом в содержательном плане на первое место выступает проблематика свободы. Хотя вроде бы материал патриархальной жизни, которая регламентирует поведение человека до мелочей, не дает оснований для этого...
Но недаром же в те самые 60-е интеллектуальным бестселлером была книга российского литературоведа Михаила Бахтина о связи поэтики Рабле и народной карнавальной культуры. Написанная гораздо раньше, она пришлась в самый раз «шестидесятникам». Потому что объясняла избранный ими тип поведения в условиях патерналистского общества. Карнавальная поэтика предполагает некий разрыв в рутинном поведении, праздничное освобождение от текущих обязательств и каждодневных ролевых функций и масок. У Параджанова подобный тип поведения был отнюдь не чем- то выпадающим из ряда — он был человеком-праздником. Как говорит в нашем фильме его жена Светлана Щербатюк, это «театр двадцать четыре часа в сутки». Постоянная игра, которая утомляла многих, и раздражала не меньше. Но она же несла в себе и вызывающую свободу от общества, впадающего, после Хрущевской «оттепели», в новое состояние рабской зависимости от власти и внешних обстоятельств.
Не случайно любимой, постоянно играемой маской Параджанова была маска гения. Так он представлялся еще задолго до «Теней...» Не так давно прочитал интервью с одним из сценаристов, опубликованное еще в 1957 году. Он оторопело рассказывает журналисту, как повстречавшийся ему на студии режиссер протянул руку со словами: «Я — Параджанов, единственный гений на этой киностудии». Гораздо позже, живя в Тбилиси, он скажет c иронией: «Они там, в Киеве, передрались, решая, кто первый. Первый — Довженко. А я второй...». И, после паузы: «Нет, второй — мой учитель Савченко, я третий». Не сказал только, что словцо «гений» привилось с его легкой рукой — вот только игра людей посредственных потеряла всякий смысл.
Игра его казалась опасной — не только для него, но и для окружающих (Балаян не раз возвращался к этой мысли). Жил Параджанов в доме на Брест-Литовском проспекте. Рядом — универмаг «Украина», напротив — цирк (соединялось в единое семантическое поле: украинский цирк). И — вареничная, куда режиссер спускался с опять-таки пугающими восклицаниями: «Р- раступись, идет украинский буржуазный националист Параджанов!» Народ шарахался, конечно... А знамя гомосексуалиста, которым он размахивал направо и налево. Экстравагантную эту личину он примерял на себя и так, и эдак. Кончилось тем, что эту маску органы («очень внутренние», по его же определению) и пришпандорили ему, дабы усадить на скамью подсудимых.
Практически параллельно с работой Ширмана и всей группы над фильмом, в Москве та же Кора Церетели продолжала работу над книгой «Коллаж на фоне автопортрета». Здесь тоже перед читателем возникает игровой Параджанов. Игровой, то бишь настоящий. Среди авторов, что и понятно, немало киевлян — Юрий Ильенко, описывающий не состоявшуюся дуэль с режиссером во время съемки «Теней...», С. Щербатюк, скульптор Николай Рапай, Леонид Осыка, Наталья Пищикова, Владимир Луговской... Кто не читал — очень рекомендую.
В любом случае, хочется надеяться, что наметилась тенденция вспоминать, анализировать живую, настоящую личность, а не следовать неким ритуалам, когда носят «куклу» классика из угла в угол и славят... себя. Да-да, тени отбрасываются на себя родимых: ой, какие ж мы тоже гениальные и необыкновенные, и как нас не ценят... Надоело это, да и никому неинтересно, кроме тех, кто празднует свое призрачное бытие.