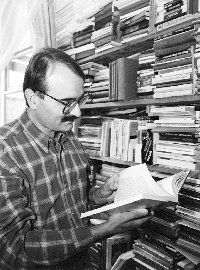Максим Стриха — писатель, доктор физико-математических
наук, автор более пятидесяти трудов по теории полупроводников, книги стихотворений
«Сонеты и октавы», около двухсот литературно-критических, публицистических
статей, переводов Данте, Киплинга, Стивенсона, Элиота. Родился в семье
известных ученых. Он уже многое успел — и при этом только вступает в возраст,
который считается возрастом творческого расцвета человека. Максим — активный
участник и политической жизни нашей страны. В свое время он был депутатом
Киевсовета, членом Партии демократического возрождения Украины, потом —
НДП. Сейчас вместе с Анатолием Матвиенко ушел из «партии власти» в «Открытую
политику». Но темой нашего разговора стала не его политическая биография,
а проблемы взаимоотношений современной украинской интеллигенции и общества.
ЭЛИТА И АНТИЭЛИТА
— Владимир Короленко как-то отметил, что «одним из последствий
большевизма стало обеднение России интеллигенцией». Завоевание Украиной
независимости также привело к определенным общественным сдвигам. Нельзя
ли теперь констатировать, что наше государство обеднело на интеллигенцию?
— С интеллигенцией все вышло очень сложно, хотя бы в историческом
аспекте. Да, интеллигенция была физически уничтожена несколькими волнами
сталинских репрессий — причем в Украине их было больше, нежели в России,
и начались они раньше. Я знаю это не из книжек, ибо происхожу из семьи
еще дореволюционной по своим историческим корням, а следовательно, почти
полностью истребленной, украинской интеллигенции. Мой прадед, Андрей Григорьевич
Коломийченко, был директором гимназии. Прабабушка Анна Терентьевна Бурчик-Бузницкая
— народной учительницей с 1908 года. Она была первой моей воспитательницей
и поэтому для меня, скажем, Ефремов или Дурдукивский — не какие-то персонажи
из далекой истории, а фигуры из семейных преданий, поскольку прабабушка
учительствовала в знаменитой киевской «Трудшколе №1 им. Т.Шевченко», проскрибированной
еще в связи с процессом «Союза освобождения Украины» 1929—30 года.
Но в то же время советская власть создала и чрезвычайно
мощное поколение новой интеллигенции, которое успело унаследовать от предшественников
высокие критерии профессионализма, деловой этики, научной порядочности.
Я говорю о научной интеллигенции, так как мне посчастливилось вырасти в
семье, где дедушка, Максим Федотович Гулый, известный биохимик, является
академиком Национальной академии наук и до сих пор трудится в свои 94 года.
Покойный отец, Виталий Илларионович Стриха, который был организатором и
президентом Академии наук высшей школы Украины, — тоже очень интересная,
мощная и светлая фигура, блестящий физик и преподаватель. Мама — Надежда
Максимовна Гула — член-корреспондент двух Академий — Медицинской и Национальной.
Хотя что бы там ни было, советская власть в значительной
степени возродила интеллигенцию, которая была до революции, — и тем самым
породила собственного могильщика. Ибо понятно, что интеллигенция нуждалась
в определенном уровне свободы. Система могла «зажать» все гуманитарное
— что она и делала. Но для того, чтобы были физики, чтоб они работали и
давали научный продукт в виде хотя бы той же бомбы — невозможно было полностью
«завинтить гайки».
И поэтому возникали знаменитые фрондерские разговоры «на
кухне» и в курилках, а кое- где и на семинарах, особенно распространенные
среди «шестидесятников». И именно эти люди стали активистами демократических
организаций, именно они и их дети на романтической волне конца 80-х пришли
в политику. Именно они составляли значительную часть депутатского корпуса
в 1990 году.
Но — грустный парадокс — новой власти эта интеллигенция
уже не была нужна. Вот так интеллигенция стала могильщиком для самой себя.
То, что происходит в Украине с интеллигенцией сейчас, я действительно воспринимаю
с ужасом. У нас могут процветать ректоры, о которых всем известно, что
они не писали не то что докторской, но даже кандидатской диссертации, не
прочитали ни одной лекции. Но эти люди не сходят с колонок газет. У нас,
в конце концов, Президент может пойти на концерт зарубежного певца, которому
запрещен въезд в некоторые страны из-за мафиозных связей, проигнорировав
последнее, как потом выяснилось, выступление на родной сцене Анатолия Соловьяненко...
В течение 70-ти лет советской власти все-таки создалась
определенная система критериев. Она была сложной, далеко не все там было
бесспорно хорошо. Но во всяком случае явных парвеню в высшие эшелоны власти
все-таки не пускали.
— Кого вы имеете в виду?
— Это люди, не наделенные багажом культуры, порядочности,
образованности. Им, благодаря деловой хватке, умению работать локтями,
быть более жесткими, последовательными в деле «потопить ближнего», удалось
(называю один из типичных вариантов), став депутатом в 90-м, ухватить свое
во время приватизации, а потом занять определенное место в исполнительной
власти, распоряжаться большими материальными ресурсами, судьбами людей.
Сейчас они ходят в черных костюмах и в белых носках, но с очень дорогими
галстуками. Они устанавливают критерии, они присуждают премии, они определяют,
что стоит в этом государстве поддерживать, что нет.
Мой отец два года тому в статье в «Дне» писал, что страшнее
всего то, что в Украине формируется «черная» элита. На самом деле — это
элита по положению, а не элита по духу, по своим качествам.
— Содержание понятия общественной элиты меняется у нас
на глазах, и принадлежность именно к интеллигенции ее представителей уже
не играет большой роли...
— Интеллигенция активно исчезает. Выделился очень узкий
слой тех, которые приспособились. Есть люди, которые сумели из физиков
переквалифицироваться в политологов и сейчас довольно успешно существуют
на западные гранты, издавая иногда добросовестные, иногда не очень исследования
и «рейтинги». Есть люди, которые из математиков переквалифицировались в
компьютерных фирмачей. Есть гуманитарии, которые пошли в политики. И есть
очень много тех, кто просто пошел на базар, поскольку жить как-то нужно.
Но высококлассные специалисты, которые добросовестно пытаются удержаться
в тех же естественных науках — они обречены либо на эмиграцию, либо на
прозябание. Ибо, скажем, доктор наук в академическом институте сегодня
получает 130 гривен на месяц (ставка 260 при половинной неделе)...
Творческая интеллигенция... Так же — кто-то уехал, кто-то,
вопреки всему, по-прежнему предан Украине. Как покойный Соловьяненко. К
счастью, он не бедствовал материально — но за счет того, что его приглашали
русские филармонии.
Еще немного — и я боюсь, что среда интеллигенции потеряет
способность самовоспроизведения. Дело в том, что интеллигенцию нельзя создать
указом. Она должна появиться сама. Чтобы человека назвать интеллигентом
— он должен определенное время провести в среде, где люди живут по определенным
правилам, где что-то считается порядочным, а что-то — абсолютным «табу».
Раньше те же ученые могли жить, почти не выходя из собственной среды. Сейчас
— человек лишен этой возможности. Если вы, например, молодой студент-физик
— вы вынуждены, если не хотите жить на девять гривен стипендии, крутиться.
То есть вы выходите за границы научной, образовательной или творческой
среды, большую часть своего времени расходуете на совсем другие связи —
соответственно формируются другие критерии, другое мировосприятие.
Следовательно, тех людей, которые продуцируют тексты, образовывают
интеллигентские «тусовки», у нас становится чем дальше, тем меньше. Поэтому
не могу быть оптимистом. Но не могу быть и каким-то фатальным пессимистом.
Накоплен все-таки определенный потенциал, и еще несколько лет он будет
работать. Но если не будет изменений к лучшему в течение 7—10 лет, боюсь,
что мы подойдем к рубежу, когда воспроизвести что-либо уже будет невозможно.
— Не может ли класс бизнесменов продуцировать интеллигенцию?
— Правила игры совсем другие. Интеллигент — по определению
— не может быть абсолютным прагматиком. Бизнесмен должен быть абсолютным
прагматиком — иначе он навсегда проигрывает. Это — разные миры. Это требование
жестко во всем следовать своему интересу. Не хочу оскорбить бизнесменов.
Среди них есть много людей безусловно порядочных, готовых поддерживать
те же творческие акции, тех же ученых. И все-таки, это не та среда, которая
может массово продуцировать интеллигенцию. Вряд ли у детей крупного бизнесмена
может возникнуть идея пойти в науку, стать доктором наук и получать 130
гривен.
К тому же есть еще одно, на первый взгляд, парадоксальное
обстоятельство. Наша интеллигенция является продуктом того специфического
общества, которым была бывшая царская, а потом коммунистическая Россия.
Тоталитарное общество — оно является очень организованным, где на каждую
функцию есть своя прослойка. Должны быть люди, которые интеллектуально
обслуживают государственную машину. Поэтому государство должно продуцировать
этих людей. А для обслуживания «элит» сегодняшней «демократической» Украины
ни ученые, ни художники мирового уровня, похоже, уже не нужны. Достаточно
советов специалистов МВФ и концертов Иосифа Кобзона.
ЗААНГАЖИРОВАННЫЕ ВЛАСТЬЮ?
— А почему вы в свое время пошли в политику? Судя по
всему, вас не напугали те методы, которые применяет украинская политика?
— Я принадлежал к волне тех, кто честно поверил в горбачевскую
перестройку и пошел в общественную жизнь. Я действительно участвовал в
создании Общества украинского языка, потом Руха, потом стал депутатом Киеврады,
потом был советником министра культуры Ивана Дзюбы и его преемника Николая
Яковины. Участвовал в создании проекта НДП, когда объединились Партия демократического
возрождения Украины, членом которой я был, и партия Трудовой конгресс Украины.
НДП на первом этапе задумывалась как сплав людей, которые
пришли в политику толи по велению совести, толи из-за общественного призвания,
бизнесменов, которые ощущали необходимость изменений к лучшему, и, наконец,
более порядочной, лучшей части чиновничества. К сожалению, с определенного
этапа НДП допустила фатальную ошибку, решив идти во власть. Тогдашние руководители
НДП абсолютно не рассчитали, что по теперешним правилам игры не партия
возьмет власть, а власть возьмет партию. И поэтому на прошлом съезде партии
— четвертом, когда делегатов в течение ночи «насиловали» уговорами проголосовать
за выдвижение Л.Кучми — все наиболее активные, последовательные, демократически
ориентированные люди ушли из этой партии вместе с лидером Анатолием Матвиенком.
Теперешняя НДП не является интересной никому, и я подозреваю, — как раз
тем, кто в ней остался. Партия существует, пока есть правительство Пустовойтенко,
а это уже ненадолго...
Сам я вслед за Матвиенко пошел в «Открытую политику». Надеемся
поднять из руин растоптанный правый фланг. Есть объективная потребность
в том, чтобы это кто-то делал. Может быть, это не удастся нам, может мы
просто дадим толчок для того, чтоб это сделал кто-то другой. Но в каждом
случае, наши усилия ненапрасны, ибо сплачивание десницы — это веление времени.
Мириться с той ситуацией, которая существует сегодня в Украине, — это преступно.
— Насколько наша интеллигенция заангажирована властью?
— Сложный вопрос. С одной стороны, интеллигенция в силу
своего положения является той прослойкой, которая поддерживается любым
цивилизованным государством. В тех же западных демократиях эта сфера финансируется
государством, но нет никакого диктата над душами и совестью людей. Они
свободны.
У нас, к сожалению, государство платит мизерную зарплату,
а в ответ требует стопроцентной лояльности не столько к государству, сколько
к людям, которые считают себя воплощением этого государства. Потому ученых
Академии наук, вогнанных в нищету, грубо созывали на собрание, где вынуждали
единогласно выдвигать в президенты Кучму. Самое обидное, что люди собирались
и выдвигали, так как боялись, что их выгонят, и они потеряют даже те нещастные
копейки, а самые главное — возможность работать в науке...
Убежден — интеллигенция по своей сути призвана быть оппозиционной,
поскольку любая власть стоит того, чтобы ей оппонировать... Интеллигенция
призвана быть совестью нации, служить определенным моральным контролем
деятельности власти. Опять же, я не знаю, как сегодня могут выполнять эту
функцию, например, руководители наших «национальных» творческих союзов,
которые по-нищенски финансируются — но все-таки финансируются — из государственного
бюджета и поэтому уже не могут ничего сказать. В разговорах между собой
— да, все все замечательно понимают. Но все боятся потерять хотя бы эту
небольшую поддержку государства.
Но государство — это не только Кучма. Это тот же Марчук,
это тот же Мороз, это тот же Симоненко, это тот же Ткаченко. Двум последним
я лично совсем не симпатизирую. Но, если мы играем по демократическим правилам,
то государство — это все мы. В конечном счете, все мы являемся налогоплательщиками,
а не только те, кто пасется вокруг ныне действующего Президента. Вместе
с тем они присвоили себе монопольное право эти налоги потреблять.
— А может, эти опасения связаны не только с возможными
административными решениями?..
— Я бы не драматизировал ситуацию. В Украине еще никого
не садят. Скорее можно наткнуться на неприятность, крутясь в большом бизнесе.
В политике уровень, на котором пребывают руководители творческих союзов,
— это не тот, который что-то реально решает. Не тот уровень, где будут
мстить за как-то не так выраженную позицию. Но дают себя знать черты того
рабского менталитета, который воспитывался в течение 70-ти лет. Я убежден,
что если бы руководитель творческого союза господин N в один прекрасный
момент топнул ножкой и сказал, что так дальше жить нельзя, то не было бы
никаких организационных выводов относительно него. Но господина N делали
руководителем Союза еще в советские времена, он знает, что бывает — поэтому
он топать ножкой публично не будет.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ?
— Вы были одними из авторов «Концепции государственной
культурной политики», которая была разработана при идейном руководстве
тогдашнего министра культуры Ивана Дзюбы...
— Иван Михайлович Дзюба как человек большого аналитического
ума, задался вопросом: что делать дальше? Давайте представим, что мы поменяли
«плохих» советских чиновников на «хороших» украинских (на рассвете нашей
независимости искренне в такое верили). Как же далее поддерживать украинскую
культуру?
Для этого нужно было выработать определенную систему правил
игры. Знаменательно, что Иван Михайлович пригласил работать в министерство
людей очень нестандартных традиционного «советского» взгляда на культуру.
Первый заместитель Николай Яковина — самый молодой председатель облисполкома
в бывшем СССР и талантливый художник. Советники министра Александр Гриценко
— кибернетик, литературовед и поэт, Сергей Тримбач — киновед и кинокритик,
Виктор Вечерский — архитектор и энтузиаст памятникоохранного дела, Андрей
Кочур — сын знаменитого Григория Порфириевича Кочура, человек, который
был чемпионом Украины по боксу в легком весе, но при том — известный филофонист
и музыкальный критик.
Иван Михайлович, очевидно, хотел собрать компанию таких
разносторонних людей, чтобы они немножко расшевелили. Я бы не хотел употребить
термин «болото». Но уж так сложилось, что при советской власти сформировался
клан советских «культуртрегеров». Там так же были порядочные и хорошие
люди, но беда украинской культуры последних десятилетий именно в том, что
она не была целостной. У нас театроведы почти не общались с музыковедами,
все они очень приблизительно представляли, что есть такое, как изобразительное
искусство и тому подобное. Потому Иван Михайлович смело привлекал к работе
людей, которые даже не имели, так сказать, формального образования в одной
из этих отраслей, но могли шире взглянуть на ситуацию в целом и были заангажированы
в творческом мире на достойном уровне. И именно таким людям было поручено
разработать эту концепцию.
Основную работу осуществили мы с Александром Гриценком.
Сделали инвентаризацию того, что мы унаследовали. Изучили модели, как поддерживают
культуру другие государства. И предложили определенные пути, которые можно
было реализовать в Украине. Документ появился в середине 1994 года. В октябре
того года он был утвержден как основа на коллегии министерства, а после
того началась страшная атака творческих союзов. Собственно, не творческих
союзов, ибо я как член Союза писателей совсем не уполномочивал никого подписывать
какие-то заявления с требованием «дать отпор» и «проявить бдительность»,
а руководителей союзов. Они подумали, что в них заберут их небольшое бюджетное
финансирование. Хотя в документе об этом совсем речи не было.
Там говорилось о том, что государство должно сделать поддержку
культуры многоаспектной. У нас государство осуществляет «собес» в сфере
культуры, т.е. поддерживается не сама культура, не представление, не приобретение
книжек библиотекой, не новые художественные выставки — а поддерживается
крайне мизерная зарплата работников этих заведений. И все.
Мы предлагали поддержать творческую деятельность путем
внедрения законодательства о неприбыльных организациях, которое выводило
бы эти организации в совсем другую, льготную сферу налогообложения. Мы
предлагали использовать элементы британского опыта, когда средства делит
не министерство, а полуавтономная структура, которой дает деньги государство,
а их делят там на основании конкурса. Художник будет иметь дело не с одним
чиновником, а с определенной коллегией, группой авторитетных уважаемых
художников. Как по мне, это был хороший документ. Это признают и многие
из его тогдашних критиков.
Но, к сожалению, тогда его время еще не пришло. Грубо и
непристойно устранили Ивана Михайловича Дзюбу. После этого год работал
в подвешенном состоянии исполняющего обязанности Николай Яковина. Потом
появился Дмитрий Иванович Остапенко. И все вернулось «на круги своя». Министерство
культуры из того учреждения, которое задумал Дзюба, — органа, определяющего
культурную политику, органа, хранящего национальное наследие как основу
культуры, — опять стало центральной филармонией с главной функцией организации
правительственных концертов и всяческих праздничных мероприятий. Наибольшие
деньги проходят здесь — и именно здесь сосредоточены наибольшие деловые
интересы.
Правда, нужно отдать должное Остапенко, на каком-то этапе
он работу над концепцией продолжил. В конце концов, сильно подправленный
и выхолощенный, этот документ был утвержден как «Концептуальные основы
деятельности органов исполнительной власти в сфере культуры». Постановление
успел подписать Дурдинец за короткий период исполнения обязанностей премьера
между Лазаренком и Пустовойтенком. Этот документ можно не стесняясь демонстрировать
на всяческих международных конгрессах, но на практике он никак не повлиял.
— Со времени создание «Концепции» миновало пять лет.
Осталась ли она, на Ваш взгляд, актуальной и сегодня?
— Стратегическое направление того, что мы предлагали, мне
кажется правильным. К сожалению, катастрофически ухудшились стартовые условия.
Если в 1994 году еще существовала инфраструктура культуры, унаследованная
от УССР, то сейчас мы имеем ее руины. Уничтожается сеть библиотек — даже
государственная историческая библиотека в Лавре закрыта по причине отключенного
электричества, а районные — массово закрывают и помещения продают. В ужасающем
состоянии музеи. Грустную роль сыграло тут возвращение помещений церквям.
Ведь при советской власти специализированных музейных помещений почти не
строили, часто располагая ценные музеи в закрытых храмах. А сегодня, когда
восстанавливается справедливость относительно верующих, мало кто вспоминает
о ни в чем не повинной культуре, об уникальных музейных коллекциях, которые
кое-где выбрасываются просто на улицу.
Состояние театров — в том числе национальных — жалкое.
Родной кинематограф лежит в руинах. И сегодня, пытаясь что- то сделать
с украинской культурой, а не просто не давая ей утонуть, нужно осуществлять
мероприятия, которые более-менее коррелируют с нашей концепцией. Если бы
это начали делать в 1994 году — мы бы спасли значительно больше. Сейчас
речь идет об остатках.
— Недавно был назначен новый министр культуры. На что
можно надеяться в связи с этим назначением: министерство будет органом
определения культурной политики государства или центральной филармонией?
— Министр работает слишком недолго, я бы пожелал удержаться
от комментариев. Ибо что я могу сказать? Не могу же я укорять человека
за его комсомольское прошлое, или то, что он сумел продержаться советником
трех таких различных премьеров. Посмотрим, что этот министр начнет делать...
О ДУХЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
— Научная интеллигенция, насколько она остается таковой?
Ведь возможностей для занятий наукой с каждым годом все меньше и меньше.
— Несколько раз в неделю я все-таки появляюсь в Институте
полупроводников НАН Украины. У меня как у теоретика рабочее место дома.
В институте общаюсь с коллегами, которые невзирая на все пытаются работать.
Недавно я получил 229 гривен за участие в изобретении полупроводникового
лазера с переменной длиной волны. Как видите, наше государство щедро вознаграждает
изобретателей. Не менее приятно бывает написать формулы, за которые никто
ничего не даст, но в которых есть своя эстетика, своя красота. И есть еще
довольно много людей, которые делают именно это.
К сожалению, возможностей для этого становится чем дальше,
тем меньше. В теории мы сохраняем сильные позиции — потому что теоретикам
много не нужно: письменный стол, ручка, компьютер, доступ к литературе.
С экспериментами, конечно, значительно хуже. Ибо в науке финансируется
опять же сама зарплата. А современный эксперимент — он стоит денег, и здесь,
к сожалению, происходит полный коллапс.
Определенные надежды связаны с присоединением к международным
программам, но здесь все держится на энтузиазме отдельных людей. Где есть
такие энтузиасты, то там что-то идет, где нет — там люди теряются и пропадают.
Но какой-то целеустремленной государственной политики в сфере науки нет.
— Каким вы видите выход из этой ситуации?
— К сожалению, есть один болезненный шаг, на который нужно
идти. Могу по физике судить. В бывшем СССР изучали все направления, которые
существовали в мире. В этому АН УССР была отпечатком АН СССР — здесь также
изучали все и понемногу. Сейчас мы должны сделать то, что давно сделали
поляки, которые еще в конце 80-х сосредоточились на том десятке направлений,
где они держались на мировом уровне. Нам действительно нужно было бы четко
определить, где мы еще можем соответствовать мировому уровню, и попробовать
держаться хотя бы там. Остаток ресурсов вложить туда. И, конечно, шире
внедрять систему грантов. Это соревновательность, это вынуждает людей предлагать
свежие идеи, шире подключаться к международным программам, где едва ли
не единственное для нас спасение.
Кроме того, должна демократизироваться сама система науки.
Главной фигурой должен стать не администратор в науке, а ученый. К сожалению,
у нас сейчас этот ученый приведен в такое материальное и моральное состояние,
что даже говорить об этом больно.
Нужно возродить давний дух академического самоуправления
в университетах. Ситуация, в которой сегодня ректор кричит на заседаниях
ученого совета и может позволить себе выгнать с работы профессора, который
ему чем-то не понравился, и потом не восстанавливать его, невзирая на судебные
решения, — это страшная ситуация.
Снова мы возвращаемся к тому, с чего начали. Всего этого
нельзя достичь без восстановления общественного статуса интеллигенции.
Пока интеллигенция у нас не будет отвоевывать своих позиций — не будет
кому объяснить, скажем, почему неприлично наделенному властью человеку
кричать на подчиненных.
К сожалению, говоря сегодня об интеллигенции, мы имеем
в виду ту старую — советскую — интеллигенцию. Но другой интеллигенции у
нет. Хотелось бы, чтобы она появилась.