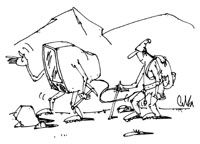Захар БУТЫРСКИЙ — корреспондент программы «Репортер» «Нового канала». Ему 24 года, и до нынешнего места работы он прошел обучение в Киевском институте журналистики и Европейской академии журналистики в Австрии, трудовую закалку получил в «Післямові» и ТСН («1+1»). Захар специализируется на темах политики, криминала, проблемах культуры. Недавно в «Дне» наш коллега рассказывал о своих впечатлениях во время освещения президентских выборов в США. А сейчас мы предлагаем вам интервью с Бутырским о проблемах нынешней информационной тележурналистики.
— Как на протяжении того времени, что вы работаете на отечественном ТВ, менялся подход к информационному продукту: от присутствия (отсутствия) цензуры (самоцензуры) — до технологий?
— Лучшим примером цензуры 94—97 годов может служить история гибели информационно-аналитической телепередачи «Пiслямова». Если помните, вначале она выходила на Первом национальном канале, потом была «изгнана» на «Гравис». Потом «пiслямовцев» приютил «1+1», но передача просуществовала там очень недолго. Ее мягко «задушили» — коллектив хотя и распался, но, по крайней мере, никто не остался без работы. Нынешняя аналитика — дитя цензуры. Телеведущим разрешено разве что намекать да задавать риторические вопросы. Но зритель устал. Ему хочется здоровой дозы информации. В плане же технологий наше телевидение совершило за последние два-три года огромный скачок. Никого не удивишь «живой» студией — даже местные телекомпании не подают новости в записанном виде. Прогресс и в скорости подачи, и в появлении «прямых» включений с места события. При этом сам журналист превращается как бы в винтик гигантского механизма по производству новостей. При всем разнообразии каналов у зрителя практически нет выбора — один и тот же набор тем и идентичное их освещение.
— Что для вас самого сейчас является в вашей работе журналиста-новостийщика самым интересным? От чего ловите «кайф»? В чем прежде всего видите необходимость самосовершенствования?
— Эмоционально «заряжает» информация о неординарных событиях. А еще интереснее — оказаться непосредственно на эпохальном событии. В моем понимании журналистская удача — пережить в парламенте «конституционную ночь» 96- го года или американские выборы 2000 года. Другой стимул для работы — повлиять на ситуацию, заставить политиков переосмыслить неправильно принятое решение или же обратить внимание общества на серьезную проблему. Правда, часто ловлю себя на том, что пишу о «виртуальной реальности». Таковой для многих людей остается большая политика. Стоит выйти на улицу — и жизнь видится совсем под другим углом. Поэтому, как и каждый журналист, стремлюсь к доступности.
— Так случилось, что в одном из номеров «Дня» вас случайно перевели в «боевой отряд» телеоператоров. Так что вполне уместно задать журналисту Бутырскому вопрос о роли оператора в информационных программах.
— Инициатива на съемках, как правило, исходит от журналиста. Однако всегда хорошо, когда между журналистом и оператором есть взаимопонимание. Телевизионщикам известна такая теория: 90 % информации передает картинка и только 10 % — текст за кадром. И то — усваивание этих 10 % возможно только при удачной интонации начитки.
— Каких знаний, навыков не хватает нашим журналистам?
— Прежде всего — узкоспециальных. В Германии, например, профессия журналиста базируется на высшем образовании в какой- либо сфере: если пишешь об экономике — экономическом, о криминале — правовом и т.д. Без базовых знаний журналист становится просто послушным «рупором» политиков. А если то, что он сообщает, — блеф? Тогда ведь и журналисту перестают верить.
— В сравнении с советским ТВ нынешнее, по-моему, потеряло одну свою качественную особенность: «действенность» в рамках помощи на местном, не центральном уровне. Считаете ли вы возможным возврат к технологиям «малых дел»?
— Как же потеряло? Наоборот — на местном уровне даже локальные телевидение и газеты попадают в точку. Я помню случай, когда зарвавшегося начальника отделения больницы снимали с работы после одной публикации в газете «Вечерняя Макеевка». Что уж тут говорить о телевидении? Съемочные группы из Киева встречают по-прежнему пышно, и местное начальство потом обижается, если его не похвалишь. Однажды пришлось писать о церковном конфликте в знаменитом шевченковом селе Моринцы. Так вот, одна из враждующих конфессий гостеприимно сопровождала нас на протяжении 150 километров по Черкасской области. Значит, телевидение эффективно?
— Если бы вы сейчас стали руководителем информационной службы национального канала, у вас бы было достаточно финансовых средств и вы были бы независимы от политической конъюнктуры, чем бы кардинально отличались ваши новости от ныне существующих?
— Современные украинские новости становятся все ближе к зрителю. Но в них по-прежнему слишком много официоза. В идеале новости должны не только освещать поверхность айсберга, а говорить, что же произошло «на самом деле». Они должны быть написаны доступным языком. Зрителя нужно шокировать зрелищностью и неординарной информацией. Иногда вместо Верховной Рады лучше отрядить съемочную группу в интересную командировку в регион. В каждом выпуске новостей должно присутствовать журналистское расследование — «темных пятен» в Украине, слава Богу, хватает. К сожалению, не каждый канал может себе позволить частые командировки и прямые включения.
— Какой совет журналист-информационщик мог бы дать нашим «ньюсмейкерам», если бы его спросили?
— Быть лаконичными и выражаться яснее. Журналисты любят, когда политики четко формулируют свои мысли. Многие «ораторы» обижаются, что, мол, передали не то, что они хотели сказать. Примером лаконичности был покойный Вячеслав Чорновил. Перед интервью он всегда спрашивал: во сколько секунд я должен уложиться? И, как правило, у него это получалось.