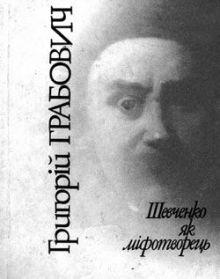Подведены итоги читательско-экспертного опроса «Книги независимого 15-летия, повлиявшие на украинский мир». Сегодня публикуем рейтинг номинации «Хрестоматия», который дает представление о ценностной ориентации современного читателя в классической литературе и в книгах о классике. Поскольку более или менее точных критериев для сравнения книг не существует, решено первые семь изданий подать без итоговой нумерации, в хронологическом порядке их выхода.
В конечном счете, никаких неожиданностей ждать не стоит: при опросе общественности семь книг, выбранных среди тысяч и тысяч, изданных за полтора десятилетия, без сомнения будут достойны наивысшего внимания. Намного интереснее проанализировать выразительные разногласия в оценке, так сказать, «близких» произведений. Например, «места» Григория Грабовича и Юрия Шереха.
КАК «СТАЩИЛИ» ШЕВЧЕНКО
Грабовичу таки удалось расшевелить украинское постсоветское литературоведение. Сначала он отправил его в нокдаун книгой «Шевченко як міфотворець». Немногословно крикнув в прессе сакральное «Ганьба!», материковое шевченковедение упало в молчаливый шок на целых пять лет. Пока в соревнования с гарвардским профессором не вошла Оксана Забужко с книгой «Шевченків міф України» (№8 в рейтинге). Дискуссанты говорили на одном языке — языке современной западной философии, неизвестном нашим заслуженным деятелям искусств. И это гуманитарное невежество привело к комичной ситуации: Забужко, которая оппонировала Грабовичу, зачислили к его «приспешникам» — и долго выписывали «кузькину мать» одну на двоих. Прав был Чехов: «В провинции с упорством спорят о том, чего не знают», — и добавлял: «Самые несносные люди — это провинциальные знаменитости».
По большому счету, тогда, в конце 1990-х, широкой научной дискуссии с постструктуралистическими взглядами Грабовича и быть не могло. Труды Леви-Строса и Юнга, методологией которых пользовался пан Григорий, еще не были изданы в Украине. А без этих предшественников нельзя было постичь саму возможность вывода поэзии из-под литературного диктата. «Те, що говоримо про поезію, треба аналізувати так само, як будь-яке твердження з мовознавства чи із загальної науки про психологію», — писал Грабович и этим «забирал» Шевченко у «ученых», которые сделали себе имя тем, что «ідеологічний погляд на літературу перекидають як монету на другий бік, і чешуть те саме», — это уже голос Юрия Шереха.
И этот голос нью-йоркского энциклопедиста можно было бы, при желании, услышать уже тогда — «Третя сторожа» (№22 в рейтинге) вышла через два года по «Міфотворцеві» Грабовича. И Шерех там также осторожно отделял поэзию от «литературы» и этим лишал литературоведов Шевченко. А заодно — и политиков, и «патриотов»: «Ще й нині доводиться чути, що тема України є осердя Шевченкової поезії… Звичайна статистика доводить помилковість твердження… Згадка про Бога значно переважає згадку про Україну». Дальше, чтобы выяснить отношения Шевченко со Всевышним, должна была бы вспыхнуть богословская дискуссия — а откуда такое в стране инерционных атеистов? На Западе эта проблематика носит характер перманентного дискурса, и уже из него Грабович выдвинул вопрос: «Ким був Шевченко для себе самого?» («Шевченко, якого не знаємо»; №14 в рейтинге).
О БРАХМАНАХ
Но вернитесь к Шереху. В его первой (в Украине) книге содержалось не меньше взрывчатки, чем в первой (в Украине) книге Грабовича. Относительно нашего национального символа здесь применены такие эпитеты, как « агонія й екстаз», «есхатологічний Шевченко»; «сьогодні ми назвали б цю філософію екзистенціалізмом, а стиль — експресіонізмом». Но Грабовича ругали (сначала неторопливо, потом — заливисто), а книгу Шереха как будто и не заметили (разве что всплыла в медиа мелкая, по сути дела, его мемуарная стычка с Гончаром). Почему?
Имею во всяком случае два объяснения. Во- первых, профессор Грабович — ярко очерченный теоретик — наблюдательный, логично язвительный, парадоксальный, чувствительный к слову стилист — но таки теоретик, то есть оператор терминов. А термины, как известно, — основные провокаторы споров. Здесь имеет возможность вставить свои 5 копеек не то что какой-то эменес, но и даже «учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев» (А. Чехов). Потому что, как ни удивительно, а почти каждый владелец вузовской «корочки» уверен, что разбирается в терминах так же хорошо, как и в футболе. И даже чеховский гимназист способен чистосердечно и гордо заявить профессору Грабовичу: «Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности» (собственно, как это и было в адресованных ему «письмах трудящихся» на полосах украинских газет).
Поэтому Грабович не просто открыт к нападениям со всех сторон, но он и мишень по определению. Не так с Шерехом, который сразу выбивает камень из рук нападающего, покорно отмечая: «Двоє людей не можуть бачити речі однаково». Когда же вы неосмотрительно отправитесь далее, играя мышцами собственного категориального аппарата, Шерех невзначай, как ниндзя, бросит: «У щоденному балаку (по-вченому — дискурсі) говорять…» (попробуйте представить что- то подобное у Грабовича!). Здесь уже «без образования, но дальнего ума человек» (А. Чехов) интуитивно отойдет в сторону ради самосохранения.
Думаю, Шереха не трогали, потому что боялись. Он умел избегать терминологического клинча при помощи «багатющої палітри іронізмів, сарказмів, парадоксів, дотепів на грані ґротескового фолу», как об этом писал его украинский друг и издатель Роман Корогодский. Языковед Шерех (помните, Грабович писал, что поэзию должны исследовать именно языковеды) в совершенстве владел стилистикой различных социальных языков и способен был утонченно, так сказать, кинематографически привлекательно, поиздеваться над невеждами на куцем поле его собственного тезауруса. «Він полюбляє говорити речі назагал неприйнятні, які на обивательський глузд краще не чути, не знати, такі вони суб’єктивно прикрі, хоч ховай голову в пісок», — предупреждал Корогодский.
Вторая причина обхождения Шереха украинской критикой была следствием первой, следствием страха. В Украине его попробовали негласно провозгласить… «непрофессионалом». Так, когда Грабовича интересует исключительно литературный объект, пусть и в сложном философском освещении, и даже с выходом на жизненные реалии, — то Шерех проникается исключительно этими реалиями, считая, что правдивая суть жизни адекватно отражается только в эзотерических видах человеческой деятельности — поэзии, литературе, живописи. Иногда, если убрать из широкого обзора всю статью Шереха (почти любую), то на отдельном уступе можно и забыть, что это не социологическая публицистика пулитцеровского уровня, а рецензия на конкретное произведение.
Между прочим, первым в Украине об этом сказал именно Грабович: в книге «До історії української літератури» (№18 в рейтинге) он отметил «суспільне призначення… Шерехового доробку» (вообще в этой книге более трех десятков ссылок на Шереха — выше индекс цитирования только у Котляревского, Гоголя, Шевченко, Кулиша и Франко). А уже немного позже Роман Корогодский детализировал энциклопедизм Шереха: «В жадні естетично-поетичні визначення його ввібгати неможливо… Вершина знань, вершина професійної аналітики, найтоншої інтуїції, передбачень, вершина самобутности, вершина форми-гри й розігри в ставленні до критики, літературознавства, культурології… Кожна його стаття — то складна поліфонія розмаїтих засобів пізнання… Стереоскопічності стилю вченого могли б позаздрити прозаїки».
О КШАТРИЯХ
Следовательно, если Грабович предстал перед нами, как алхимик из Силиконовой долины, Шерех пришел, как мастер полевых исследований почти кастанедовского штыба. Да, он любил игру, относился к ней с таким же философским уважением, как и Гейзинга, но несмотря на это оставался настоящим джентльменом (по словам Р. Корогодского). Как наша «патриотическая» пресса любит вцепиться в какую-то «горячую» российскую цитату! Сравните это с аристократической толерантностью Шереха даже в таком эпизоде: «Критичних, нищівно-критичних висловлень про минуле й сучасне Росії не бракує в Солженіцина, але було б нетактом цитувати їх в українському виданні, лишім це росіянам».
Но уже родным шовинистам-шароварникам не дарил никогда. По большому счету, Шерех всю жизнь пытался вывести из строя «машину ненависти й недовір’я всіх до всіх». Именно поэтому, пишет Корогодский, «Юрій Шерех раз-у-раз неначе провокує національну свідомість і цю позицію підтримує постійно, незалежно від моди». А у нас, например, на президентском уровне появилась мода говорить о «мудром народе». «Що я, наївний американець, можу розуміти в таких тонких матеріях, як народна воля в Україні?», — записал Джеймс Мейс (его публицистика несколько напоминает Шерехова). Напоминает, возможно, тем, что у Мейса «ніколи не знайдеш навіть сліду провінційних тулумбасів» (Корогодский о Шерехе, но о Мейсе и Грабовиче — тоже). Шерех был апологетом современного европейского философского наставления к проблеме «Іншого/Чужого». Понять, принять, организовать сожительство. «В суспільстві існує потреба найрізноманітніших, навіть ганебних ідей», — писал Мейс, и под этим, думаю, подписался бы и Шерех. Но Юрий Владимирович понимал разницу потенциалов потенций и не требовал от поварихи руководить государством. И слово «народ» принимал за «логічно неокреслене, гумове слово» . Кстати, и Грабович в своей взрывной книге «Шевченко як міфотворець» доказывает, что наш Кобзарь был не «співцем народу», а певцом кшатриев-запорожцев, яко элиты, сливок на киселе «мудрого народа».
«Як і в кожній нації, є люди і є злидні, — говорил как-то Корогодскому Шерех и после поведал свое оккупационное воспоминание: «Коли прийшла перша адміністрація, ці військомісаріяти і так далі — це були вгодовані, пружинисті й накачані придурки-партійці… І ми звикли і до цього, як до такого темного дула. А потім ця вся адміністративна сила була зметена партизанським рухом на Волині, і прийшли фронтові німці. Це вже були оті німці, яких ми чекали, що від совєтських партизанів захистять. Тому що ті грабують, причому грабують по-чорному. П’яні в дим і ґвалтують, і ніякого контролю нема. Совки, які відчули безконтрольність. І люди говорили: «Коли вже німці прийдуть, щоби це все прогнали». То вже не адміністрація, і я сказав би точніше — фашистська сволота, — а фронтові німці».
Владимир Моренец назвал Джеймса Мейса «этнопсихологом» (это же, думаю, касается и Юрия Шереха). У Мейса есть отрывок фразы, которая тревожно диссонирует с нынешней болтовней по поводу «мудрого народа»: «…високорозвинена культура, яку Сталін, як справжній представник люмпену, зоологічно ненавидів…». Остается только повторить за Романом Корогодским: «Геть усе, що подибує український читач у вибраних творах Юрія Шереха, настільки незвичне…»
И еще: «Дуже ще мало Юрія Шереха в духово-культурному просторі України… Очисна необхідність».
Соавторы:
А.П.ЧЕХОВ. Собрание сочинений. Т.ХII. — Москва-Ленинград: Госиздат, 1929.
Григорій ГРАБОВИЧ. Шевченко, якого не знаємо. — К.: Критика, 2000.
Роман КОРОГОДСЬКИЙ. Брама світла. Батьки. — К.: Гелікон, 2004.
Юрій ШЕРЕХ. Третя сторожа. — К.: Основи; Дніпро, 1993.
Юрій ШЕРЕХ. Поза книжками і з книжок. — К.: Час, 1998.
Роман КОРОГОДСЬКИЙ. І дороги. І правди. І життя. — К.: Гелікон, 2002.
Григорій ГРАБОВИЧ. До історії української літератури. — К.: Основи, 1997.
День і вічність Джеймса Мейса. — К.: Українська прес-група, 2005.