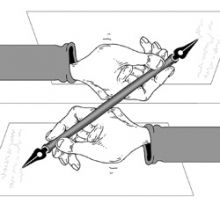Там, где над Майданом высится Дом профсоюзов, когда-то стоял обтрепанный Дом учителя, а от него до филармонии стояли невзрачные дома и домишки, за которыми скрывались дворы и дворики с очень неопрятным, извините, дизайном. Я зашел в один из них, заглянул в бумажку с адресом и через минуту стоял перед дверями с типичным для коммуналок набором кнопок для звонков (к кому идешь, тому и звони, а всех не баламуть). Пахло котами. Двери открылись, и через порог на меня глянул очень высокий и очень узкий мужчина с пожелтевшими от табака седыми усами; на нем был, так сказать, дворянский домашний халат с большими отворотами, из-под которого выглядывала вылинялая «тельняшка». Я поздоровался и сказал, что пришел к машинистке. Мужчина как-то виновато улыбнулся и объяснил:
— Это моя жена. Она умерла… Ничего, заходите.
В коридоре было темно, пахло керосином и примусом; у одних дверей стоял реликтовый самовар, у других — детская коляска тяжелого формата; на стенах висели цинковые корыта, велосипед с одним колесом и несколько вязанок лука. Не воруют, подумал я; нужно знать, что такое коммуналка, поскольку иначе мой рефлекс на лук понять сложно.
Мы зашли в большую (собственно, длинную) комнату с одним окном. На подоконнике стояла высокая печатная машинка, мрачная, как и все, что я охватил взглядом: круглый стол, покрытый фиалковой скатертью, большие настенные часы с неподвижным маятником, четыре или пять стульев вдоль одной стены и зеркало в фигурной раме темного каштанового цвета. На неубранной кровати лежал какой-то узел, а из-под подушки выглядывали переплеты нескольких толстых книг. Хозяин протянул мне руку:
— Олег Игоревич… Можно сказать — Рюрикович, где-то так.
Рука была узкая, сухая и теплая. Это меня немного утешило, ибо я чувствовал себя как-то неуверенно. К тому же я увидел, что Олег Игоревич хорошо выбрит, и пахло от него «Шипром» (а это была немалая роскошь тогдашней жизни). Что, впрочем, не улучшало ситуацию: я принес папку со своими стихотворениями; машинистка умерла, так что должен найти другую. Стихотворения мои писались, так сказать, приступами — то по несколько за день, то ни одной рифмы на протяжении многих месяцев. Подходил к концу мой десятый мединститутский семестр (оставалось две недели до Нового года), и я вознамерился послать стихи в какой-то журнал. Вообще относился к ним, если не скептически, то по крайней мере сдержанно, но… «Литераторы и артисты самолюбивы, как пудели», — писал когда-то Куприн, и чего-то «пуделиного» не был лишен и я.
— Раздевайтесь, — сказал Олег Игоревич. — Хотите чаю? Скоро сорок дней как похоронили, где-то так…
Это, очевидно, был плохой знак для моих стихов, однако меня больше беспокоила мысль, как отсюда уйти, не обидев хозяина. Двери резко открылись, и в комнату вбежал мальчонка лет восьми-девяти.
— Слушай, Олег, — сказал он, не обращая внимания на меня. — Давай я буду жить у тебя, а то мать меня ест поедом.
— Сначала научись играть в шахматы. — Хозяин легко подтолкнул мальца к дверям; на левой руке у него было только два пальца — большой и мизинец. — Соседское поколение, а я здесь старейшина. Раздевайтесь… Владимир? Вам идет это имя.
Я заколебался. К тому времени знал уже многих дедов — добрых и злых, интересных и не очень, но то был, говоря фигурально, сельский чернозем; в Олеге Игоревиче было что-то такое, что вырастает только на городской мостовой, что-то мало мне знакомое; к тому же интриговали те книги под подушкой — просто подкладывает их под голову или на ночь читает? А если читает — то о чем?
Олег Игоревич грел на примусе воду, передвигал стулья от стены к столу и готовил чайную посуду, умело пользуясь искалеченной рукой. Помогать себе не позволял. Я окинул взглядом комнату и сверху на одежном шкафу увидел девичий портрет в рамке с ножкой. Девушка не подходила к этой невеселой комнате. Была она не просто молодая и красивая, а такая… простите за банальное сравнение, солнечная. Хотя улыбалась чуть заметно, светились ее глаза; трудно представить, что шкаф под портретом может быть покрыт тонкой пленкой пыли, а где-то в углу за шкафом сидит голодный городской паук. Такой, очевидно, была та, кого уже нет почти сорок дней. Грустно!
— Вы принесли что-то на машинку? — спросил Олег Игоревич, когда мы сели к столу. — Стихи? Вот как… Не беспокойтесь, я напечатаю. Одним пальцем, если вам не очень срочно. — Он раскрыл мою папку, прочитал несколько стихотворений и взглянул на меня. — Вы учитесь в университете? В медицинском, ага… А я, представляете, топограф-геодезист. Если ты измерил криво, не сумел нарисовать, будет чудо, будет диво, потечет речушка вспять…
Олег Игоревич прочитал вслух мое стихотворение. Это мне не понравилось, потому что он не знал украинского, ужасно произносил слова, а они от этого казались жалкими и сами по себе. Не буду я это все ни перепечатывать, ни куда-то посылать, и вообще… Но тут снова вбежал мальчонка из «соседского поколения» и, триумфально глянув на хозяина, поставил на стол тарелку с изрядным куском творожной бабки.
— Вот, Олег, ешь давай, а то мать говорит — скоро помрешь с голоду. — Олег Игоревич поблагодарил, помолчал, а потом встал, подошел к окну, повернулся к нам спиной; было видно, что вытирает глаза. Мальчишка дернул его за халат. — Ну, не плачь, не маленький… Давай будем бабку есть!
И мы ее втроем таки съели. Хотя, по правде, не очень-то она мне была вкусной, ведь затворников всегда жалко, а если речь идет об одиноком мужчине — особенно.
Договорились, что приду через несколько дней; я спросил о деньгах, но хозяин сказал «потом, потом» и прибавил, перехватив мой взгляд на портрет:
— Это дочь… собственно, падчерица… не сложилось у нас, а я вроде злой мачехи, где-то так.
Снова у него наворачивались слезы. По дороге домой в Святошин я невольно вспоминал и неубранную постель, и затоптанный пол, и ту клешню вместо руки, которой Олег Игоревич таки умудрялся держать стакан с чаем.
Через пять или шесть дней (если не ошибаюсь, под вечер, после четвертой «пары») я шел по Крещатику за своими бумагами. Идти не хотелось. До Нового года оставалось меньше десяти дней. Хотя в январе начиналась сессия, на пятом курсе это смущает мало. Настроение было праздничное; хотелось поскорее забрать стихи, отдать деньги (сэкономленные из постного личного бюджета) и избавиться от мыслей о старом геодезисте, которому не можешь помочь. В то же время было и несколько совестно — за то, что молодой, что у тебя есть девушка, на которой вскоре женишься; за то, что мысли о новогоднем подарке для нее кажутся более важными, чем чужая печаль. В тот неуютный дворик я зашел не в лучшем настроении, к тому же поскользнулся и едва не упал на ступеньках. И тут началась сказка. Началась с того, что двери открыла Прекрасная Дама. На ней было обычное пальто и простая шляпка. Была она на 10 лет старше своего портрета на шкафу — и в десять раз лучше, так как обладала тем, чего не имела в девичестве: мощными прелестями зрелой женщины. Пока я здоровался и что-то объяснял, из коридорной темноты материализовался Олег Игоревич — в белой рубашке и офицерском мундире, наброшенном на плечи, при орденах, но без погонов.
— До завтра, папа, — сказала Дама и ушла.
Мы остались в коридоре, но сегодня там пахло не примусом, а духами «Ландыш серебристый». Моя папка с бумагами лежала на столе, на этот раз застеленном белой скатертью. Кровать была покрыта чем-то атласным, но подушка лежала сверху — и из-под нее таки выглядывали книги. Олег Игоревич посмотрел на меня озабоченно:
— Что-то вы такой усталый… Котлету хотите?
Я поблагодарил и отказался. Стихи были напечатаны с теми неприятными хитростями, к которым нужно прибегать, печатая украинский текст русским шрифтом. Но я утешился тем, что в этой мрачной комнате начало развидняться, и воспринял это спокойно. Если бы еще на тех часах зашевелился маятник… Хозяин прищурил глаз.
— Знаете что? Сейчас мы поработаем над вашим гороскопом. Вы верите звездам? Они того стоят. — Я что-то промямлил. Тогда (как и сейчас) не был склонен ко всем тем мистически-оккультным штучкам, из которых во время войны наиболее распространенным было гадание на картах. Хотя, в послевоенную пору, 10 — 11 лет от роду, я сотрудничал с одной интересной дамой, которая зарабатывала на жизнь с помощью морской свинки: зверек вытягивал зубами из коробки фантики «с судьбою», а я те фантики писал — или копировал старые, или выдумывал новые («Будьте осторожны в сентябре», «Вас помнят и не забудут», «Пусть ваше сердце будет из чистого золота»). — Итак, юноша, когда своим рождением вы осчастливили этот мир? Февраль? Прекрасный месяц. Вы, следовательно, Водолей. Посмотрим…
Олег Игоревич вынул из-под подушки толстый том в несколько потертом (и от того еще более роскошном) кожаном переплете. Листал, разглядывал карты неба, что-то подсчитывал, закрыв глаза и шевеля губами. В конце концов я узнал о себе много интересного. Именно это и запомнил, забыв о вещах менее интересных или даже таких, которые какие- то мои добродетели ставят под сомнение. Так к гороскопам относятся все (понаблюдайте за собой, уважаемый читатель).
Олег Игоревич приоткрыл двери и крикнул в коридор:
— Серега! Встань передо мной, как лист перед травой! — через мгновение Серега уже был здесь — тот самый, который не научился еще играть в шахматы и любил творожную бабку. Хозяин показал на него длинным пальцем. — Вот вам еще один Водолей. Ба-а-альшой будет человек!
Серега хмыкнул и ушел. Денег моих Олег Игоревич брать не захотел. Стихи я отправил по почте в редакцию журнала «Вітчизна», где они и истлели. Ну и пусть — за пятьдесят лет, прошедших с тех пор, я написал много других.