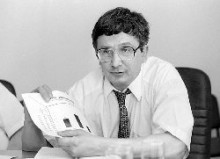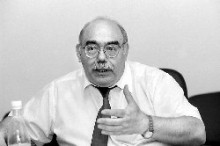К такому выводу пришли участники дискуссии о перспективах экономического развития в 2002 — 2003 годах, организованной «Днем» при содействии пресс- центра Кабинета Министров. В разговоре на эту тему, оказавшуюся в центре общественного внимания как в связи с обсуждением в парламенте программы правительства, так и по причине вынужденного пересмотра им некоторых чересчур оптимистических показателей макроэкономического развития страны, приняли участие первый заместитель госсекретаря Министерства экономики и европейской интеграции Игорь ШУМИЛО, госсекретарь Министерства финансов Анатолий МАКСЮТА, директор Института экономического прогнозирования НАНУ Валерий ГЕЕЦ, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР
В.Г.: — Макроэкономические данные последнего времени дают все основания констатировать, что экономика Украины по определенным характеристикам входит в состояние депрессии. Прибыль предприятий уменьшается, а параллельно мы наблюдаем снижение уровня депозитов предприятий в банках, следовательно, можно говорить о том, что у предприятий все меньше и меньше финансовых ресурсов. Правда, при этом утверждают (и признаки такие, действительно, есть), что предприятия из-за налогового пресса просто прячут свои финансовые потоки от налогообложения. И это на фоне того, что сегодня происходит с обменным курсом гривни, а следовательно, с ценовой конкурентоспособностью продукции украинских предприятий на внешних рынках. Можно ли выйти из такого состояния и поддержать отечественные предприятия? Я считаю, что это возможно. Но это не только проблема правительства, а и монетарных властей (Национального банка Украины. — Ред. ). Это еще и большая проблема экономики и политики в целом. Экономика, входящая в состояние депрессии, требует определенного разогрева и поддержания достаточно высокого денежного предложения. Попытка сдерживать или ограничивать денежное предложение, а значит «держать» инфляцию, требует несколько другой направленности. Мы имеем все основания говорить сегодня о том, что момент требует более либеральной политики по регулированию денежного предложения. Поэтому вопрос предотвращения депрессии должен быть обращен не столько к правительству, сколько к более широкому кругу людей, формулирующих экономическую политику и способных поддержать его усилия. При этом хорошо бы понимать, что в условиях начинающейся депрессии роль правительства не следует преувеличивать. Что бы оно ни делало, у экономики есть объективные законы, с которыми никому не дано ни спорить, ни совладать. А меры правительства могут быть направлены только на то, чтобы снижение шло по наиболее благоприятной траектории.
Кроме того, пора уже осознать, что наша экономика становится все более и более рыночной. Спады и подъемы при этом, как известно, постоянно присутствуют. И конъюнктурные колебания, свидетелями которых мы сейчас являемся, — это объективный закономерный процесс. Когда одни источники роста исчерпались или исчерпываются, а в отношении других появилась проблема включения в инструментарий роста. Одновременно с стране началась структурная ломка. Какой срок отвести на эти процессы? Понятно, что месяца- двух для них недостаточно. За такое время в экономике ничего не происходит. Что касается правительства, то могу отметить, что определенные усилия для того, чтобы задействовать новые источники роста, предпринимаются. Но противостоять глубокому спаду (в прошлом году у нас были очень высокие темпы, и некоторый спад теперь представляется объективным явлением) можно. Нужно стимулировать спрос, расширять и защищать внутренний рынок, что будет поддерживать высокие темпы роста.
А.М.: — Я бы не стал использовать для характеристики сегодняшних процессов термин «депрессия», как, впрочем, и другие. По моему мнению, в нашей экономике есть определенные проблемы роста. Я согласен с тем, что нам нужно привыкать жить в условиях реальной рыночной экономики. Сейчас перед ней стоят задачи, которые не были характерны для предыдущих лет. И нужно обратить особое внимание именно на новые условия и задачи и отыскать именно те инструменты, которые могут обеспечить положительное развитие ситуации и не допустить ее развития в негативном направлении, что могло бы повлиять на состояние экономики и благосостояние людей. Впрочем, наблюдая за бюджетным процессом, я не стал бы говорить о каких-то угрозах. Сегодня мы собираем налогов существенно больше, чем в прошлом году, хотя и несколько меньше, чем ожидали. Для этого есть как экономические причины, так и факторы, связанные с администрированием налогов. И это наводит на мысль, что в ходе реализации реформ, предложенных правительством в своей программе, нужно одновременно улучшить и администрирование налогов, поскольку только снижения ставок и расширения базы налогообложения, что безусловно будет положительным шагом, еще недостаточно. Нужно усилить ответственность налогоплательщиков.
Иначе мы получим уменьшение доходов бюджета и одновременно — сокращение внутреннего спроса, о важности роста которого тут говорил Валерий Михайлович. Я согласен с мнением о том, что ключевым направлением для изменения экономической ситуации является стимулирование спроса, как внутреннего, так, возможно, и спроса на продукцию наших предприятий, которые нарастили объемы ее выпуска, но не могут найти рынков внутри страны. Мне кажется, что правительство должно и будет искать пути для реализации товаров, выпускаемых нашей промышленностью. Политика правительства должна быть ориентирована на то, чтобы рост нашего производства сопровождался соответствующим спросом. Тогда мы придем к сбалансированной ситуации. Стимулирование внутреннего спроса можно обеспечить при разумном сочетании фискальной и монетарной политик. Именно в этом свете следует рассматривать предложения правительства по изменению подоходного налога с граждан, предусматривающее существенное уменьшение ставок. А это и есть рост доходов населения, а следовательно, и его спроса на товары — именно население является основным потребителем. Сегодня правительство вместе с Верховной Радой работает над Налоговым кодексом, где также предусмотрены меры, направленные на развитие спроса. Одновременно нельзя забывать об организационных мерах по изучению рынков сбыта за пределами страны, куда может поступать та продукция, которой у нас ранее недоставало, а сейчас стало больше, чем мы можем потребить. Это новая ситуация, в которой мы должны очень активно себя проявить, применяя все возможные инструменты, включая двухсторонние отношения на межгосударственном уровне.
И.Ш.: — Я хотел бы напомнить известные данные о росте ВВП: 5,9% в 2000 году, 9,1% — в 2001. Не так много стран имеют такие темпы роста на таком значительном временном отрезке. Поэтому понятное желание иметь и сохранить как можно более высокие темпы роста как бы вступает в противоречие с результатами первых месяцев и вызывает в обществе дискуссии относительно возможной депрессии, хотя, наверное, в других странах, где зафиксировано 3,8% роста (за пять месяцев), не употребляли бы такого термина. Наше беспокойство можно объяснить еще и тем, что объем нынешнего ВВП к 1991 году (после всего нашего роста) составляет лишь 51,7%. То есть наш нынешний уровень чрезвычайно низок. В то же время траектория реального ВВП в значительной мере отражает привычное для нас сезонное развитие, хотя май из-за различных факторов, в том числе — количества выходных дней, оказался после положительных предыдущих месяцев явно неудачным. Но если посмотреть на реальные доходы госбюджета, то мы увидим, что в номинальном выражении они выросли на 22 — 23 процента, в реальном — на 18%. Положительной оценки заслуживают и ряд других показателей, определяющих качество нашего роста: реальный рост доходов населения (17,5%), который наилучшим образом характеризует развитие, прирост вкладов населения в банках, определяющий возможности для дальнейшего кредитования экономики, рост оборота розничной торговли (18,2%). Судя по этим достаточно высоким показателям, нашу экономику даже можно назвать разогретой. Буквально сегодня мы проводили при участии ряда научных институтов, а также Нацбанка, семинар, посвященный прогнозам на этот и следующий год. Там было обращено внимание на некоторое несоответствие показателей, характеризующих развитие экономики, в том числе — потребления, и показателей производства. Я не хотел бы упрощать и утверждать, что в реальной экономике невозможны более высокие показатели экономической активности, чем у нас были получены в прошлом году. Но все же я хотел бы привести данные, которые показывают, что основа у нас хорошая. И при всей полезности дискуссий относительно предупреждения возможной стагнации или даже депрессии, мы должны правильно оценивать имеющийся позитив, в том числе и меняющуюся структуру тех отраслей, которые сейчас показывают высокие темпы роста. Существенно сократилась бартеризация экономики, повысился уровень оплаты (деньгами) за электроэнергию и газ. К сожалению, банковская сфера еще не реагирует так активно, как следовало бы, на сдвиги в нашей экономике. И хотя кредиты коммерческих банков выросли на 11%, уровень денежной массы — на 7%, денежной базы почти на 12%, заинтересованности в серьезном долгосрочном и среднесрочном кредитовании со стороны банковской системы все еще не заметно. Это объясняется существованием ряда рисков, связанных с обеспечением прав собственника и кредитора.
В.Г.: — То же самое у нас было и в прошлом году, но кредиты выросли на 26,5%, а вклады населения — на 19%. В этом году вклады населения дали рост на 23%, то есть финансовые ресурсы увеличились, а кредиты в 2,5 раза сократились.
И.Ш.: — Я согласен, что признаки определенных проблем в действительности существуют и показывают картину, требующую достаточно решительных и существенных изменений. Но я хотел бы сказать, что мы подходим к этим изменениям на уровне, когда у нас на несколько ближайших месяцев еще есть запас роста и, возможно, на еще более высоком уровне. И тут нельзя не сказать об экспорте. Мы имеем лучшее положительное сальдо, чем в прошлом году, и лучшее сальдо текущего баланса. Но есть и противоречивые тенденции. При уменьшении нашего экспорта и вообще товарооборота с Россией наблюдается компенсация этого негатива в торговле с другими странами, что может свидетельствовать о многом, в том числе — о росте (даже в условиях отсутствия инфляции) конкурентоспособности (о чем говорил г-н Геец). Мы все время следим за динамикой соотношения курсов гривни и доллара, что особенно существенно для внешней торговли. В то же время в этом году имел место новый процесс: колебания курса гривни к евро и последнего — к доллару. Значительная часть наших внешнеэкономических договоров и расчетов — в долларах, но основные экономические партнеры Украины — Россия и Европа, а не США. Девальвация гривни к евро за последнее время составила около 12%. И в связи с этим новый курс евро не привел к ухудшению, а возможно, даже наоборот — позволит улучшить нашу конкурентоспособность. Правда, этим решается далеко не все. Я убежден, что мы, возможно, уже в ближайшее время будем решать ряд вопросов, невнимание к которым может представлять угрозу для роста в 2003 — 2004 годах. Потому что темпы роста на уровне 3 — 4% не могут нас удовлетворить, учитывая тот мизерный объем ВВП, который имеет Украина и на душу населения, и по отношению к 1991 году.
А.П.: — Мне кажется, что оценивая риски возможной депрессии, мы не можем определять нашу экономику как рыночную. И это не абстрактное рассуждение. Если у нас рыночная экономика, то для выравнивания ситуации нужны одни инструменты, а если «недорыночная» — другие. Это очень важный вопрос в отношении практических действий. Лично я не могу оценить нашу экономику как рыночную. Во-первых, уровень и качество воздействия (как легитимного, так и нелегитимного) государства не соответствуют стандартам, существующим в рыночных экономиках. В нашей экономике неэкономические факторы в обычных транзакциях любого предпринимателя играют еще большую роль, чем экономические. Второй фактор — это монополизация, которая совершенно не соответствует понятию рыночной экономики, причем нелегитимная незаконная монополизация играет более существенную роль, чем законная. Возьмем металлургию. Это монополизированные (неформально) экспортеры. Я всегда подчеркиваю, что монополизация у нас может принимать формальные и неформальные формы. Третий фактор, мешающий мне согласиться с утверждением о том, что у нас рыночная экономика, состоит в том, что транзакции в нашей стране не обеспечены институционально так, как они обеспечены в рыночной экономике. У нас нет обязательности соблюдения договоров, и неплатежи — это только одна, внешняя и яркая иллюстрация этому. Есть еще экономическое принуждение, как правило, оборачивающееся неэффективностью. Так что мне, как предпринимателю, в Украине не позволительно вести себя хотя бы так, как в Польше, не говоря уже о Германии. Отсюда невозможно признать нашу экономику рыночной. То есть для того, чтобы устранять угрожающую нам депрессию, мы не можем действовать так, как, скажем, в Германии. Там бы мы рассмотрели имеющиеся макро- и микроэкономические инструменты и условились, как и когда их нужно применять. У нас же инструменты, безусловно, важны, но не являются определяющими с точки зрения преодоления депрессии.
В.Г.: — В прошлом году были такие же инструменты и такая же налоговая политика (в этом году она даже улучшилась), но результаты получены другие.
А.П.: — Оценивая и сравнивая то, что было в прошлом и этом году, нужно подумать о достоверности статистики и соотношении легальных и теневых процессов. Так, у меня сложилось впечатление, что натуральный и стоимостной рост, мягко говоря, не совпадают по некоторым показателям и отраслям. Я не могу сказать, кто в этом виноват, какая государственная структура недостаточно четко учитывает эти факторы, но, по крайней мере, что касается энергетических и строительных материалов, это очевидно. Натуральные показатели растут медленнее, чем стоимостные, особенно там, где отмечается быстрый рост. Когда же мы говорим о факторе легального роста, то совершенно ясно, что имеются в виду реальные физические объемы плюс выход из тени. В каком соотношении это было — неясно, но простые наблюдения над соотношениями роста таких традиционных отраслей, как промышленность, сельское хозяйство и строительство, и, с другой стороны, таких инфраструктурных отраслей, как транспорт и энергетика, показывают, что цены в значительной мере определяли этот рост легальных цифр. Например, прирост сельского хозяйства и промышленности был очень велик, тогда как в транспорте, как главном перевозчике продукции этих отраслей, роста практически не наблюдалось. Поэтому я думаю, что фактор выхода из тени тут играет большую роль. Это гипотеза, которую мне трудно доказать, но над этим стоит подумать. Мне кажется, что в прошлом году, когда страна была в процессе быстрого роста, выход из тени был достаточно интенсивным, поскольку ожидания населения и предпринимателей были явно положительными. Когда рост тормозится, по моему мнению, происходит обратный процесс. Депрессивные факторы способствуют тому, что предприниматели уходят в тень. Таким образом, теневая экономика может иметь раскачивающее влияние на легальные показатели, и это следовало бы учитывать. Нельзя пользоваться только данными о легальной экономике для того, чтобы решать, что делать дальше. Уже стали общим местом разговоры о том, что экстенсивные факторы — всплеск показателей оживающей экономики — себя быстро исчерпывают. Сейчас мы получаем новые сигналы об этом. Проблема в том, какие это сигналы. К примеру, увеличение доли бюджетных капиталовложений в условиях нашей слабой «недорыночной» экономики не даст реальных изменений в росте. А вот такой сигнал, как снижение непредсказуемости действий власти (не обязательно ее высшего уровня, а власти в целом), наоборот, может дать колоссальный эффект. Кстати, вполне реально продумать технологию снижения этой непредсказуемости. Могу сказать, что предсказуемая коррупция вполне терпима капиталом. Это когда чиновник на любом уровне в любой стандартной ситуации действует одинаково. Непредсказуемая коррупция — это нетерпимо. Если чиновник всякий раз поступает эксклюзивно, это для капитала невыносимо, он это выдержать не может. А если чиновник ощущает себя в так называемом сером поле, то он всегда непредсказуем.
В.Г.: — Этот тезис не работает. В прошлом году, накануне выборов, когда власть действительно была непредсказуемой (такое явление отмечается не только у нас, а во всех странах), мы имели всплеск. Сейчас ситуация совершенно другая — президентские выборы через два года, и все совершенно понятно — но мы говорим о непредсказуемости власти. Я не могу с этим согласиться.
А.П.: — Я говорю о государственной системе. Она работает в режиме угнетения капитала.
В.Г.: — Почему она перед этим так не угнетала? Инвестиции росли, причем по классическим канонам — опережали темпы роста экономики в 2 —3 раза.
А.П.: — Правильно, я только что говорил об активном факторе депрессии, когда оживление экономики — ее адаптация к каким-то стандартным факторам — закончилась и нужны какие-то сигналы от власти. Но новые сигналы не поступают.
И еще. В слабой экономике, которую я могу также назвать «недоэкономикой», очень трудно подавать какие-то идеи в отношении того, как устранить ту или иную ситуацию. Например, экономике нужно подать банальный стандартный сигнал о снижении налогового бремени. Но это не техническая проблема, а социальная. Потому, что существует некий конфликт интересов. И сигнал не посылается. Почему? Вот я беру программу правительства, которая, по- моему, довольно системна. Другое дело, что она просто подавляет количеством пунктов. Я, кстати, был несказанно удивлен и количеством правительственных программ, которые действуют. Если взять бюджет и разделить на все эти программы, то это было бы забавно. Среднее количество программ на одну бюджетную гривню... Проблема заключается в том, что никто не подумал о том, чтобы перед тем как посылать такой, казалось бы, важный сигнал, нужно устранить, нейтрализовать какие- то интересы. Просто записать: давайте облегчим налоговое бремя — это значит, ничего не сделать. Нужно выявить спрос на это и опереться на какую-то влиятельную силу в обществе, а какую-то — нейтрализовать. Без этого все программы как не работали, так и не будут действовать. Прежде чем посылать сигналы или принимать решения типа «давайте создавать отечественное автомобилестроение», правительству необходим социальный анализ. Без этого — путь в никуда.
В.Г.: — Я тоже хотел бы поговорить о том, какой является наша экономика, — рыночной или «недорыночной». Это даже не академическая постановка вопроса. Мы сегодня, по большому счету, не решили до конца лишь одну, но крупную проблему. До сих пор существовал механизм, позволявший долги предприятий, возникавшие в результате бесхозяйственности и т.д., перекладывать на долги государства. И это разрывало механизм конкуренции, в результате которой должны происходить обмен капитала и реструктуризация производства. Из-за того, что существовал такой механизм, который разрешал использовать ресурсы роста даже в условиях накопления задолженностей, мы куда-то двигались, а все равно дальше тупика уйти не могли. Этот механизм мы попытались разрушить. Однако до конца дело не довели. Так вот сегодня у нас осталась очень крупная проблема: позволит ли правительство опять переложить на наш бюджет все то, что накопилось в результате бесхозяйственности и нежелания реструктуризироваться, обновляться, выходить на свободные рынки, повышать конкурентоспособность? Если не позволит, будет создана, с моей точки зрения, классическая рыночная система. Это, конечно, не значит, что дальше трансформация должна остановиться. Мы очень отстаем от развитых стран и по уровню развития и по используемым его механизмам.
Одним из таких новых для нас механизмов является инновационное развитие. Правительство в отношении этого дает очень ясные сигналы. Да, в этом направлении есть трудности. Неизвестно, когда парламент примет Налоговый кодекс. Мы тут уже говорили о намерении правительства снизить налоги с населения. Оно согласно также снизить налог на добавленную стоимость и, если отменить существующие льготы, то, по нашим расчетам, этот налог может составлять около 17%. Кто поспорит с тем, что от правительства идут достаточно привлекательные сигналы? Исполнительная власть заявляет, что классические ресурсы для дальнейшего экономического роста практически исчерпаны. Каким будет в этих условиях путь развития? В одних случаях реструктуризация экономики происходит на основе иностранных инвестиций, с определенными последствиями, которые проявляют себя сегодня в Польше. Хотя там есть и положительные моменты, связанные с тем, что в реструктуризации части предприятий на основе законодательства принимали участие также и польские банки. Польша не могла пойти по другому пути, по пути инновационного развития, потому что там никогда не было такой научно-технической базы, как в Украине. И если сегодня наше правительство ставит эту задачу — использовать инновационную модель, то оно, естественно, понимает, что дает обществу, а также бизнесу очень серьезный сигнал, открывает весьма заманчивую перспективу. Часто в ответ звучит: нет ресурсов. Но вот вам маленький пример. Сегодня за границей работает, по разным оценкам, от 1 до 5 миллионов украинцев. В среднем каждый зарабатывает 500 — 600 долларов. Из них 300 — 400 долларов в месяц сберегается, за год это где- то три с половиной тысячи. А в сумме три-четыре миллиарда долларов, которые реально могут зайти в Украину. Это во много раз больше, чем могут дать международные финансовые организации. Вдобавок, без всяких политических условий, которые нас унижают. И сегодня правительство работает над тем, чтобы создать механизмы, обеспечивающие приход этих денег и способствующие тому, чтобы они тут были вложены. Следовательно, ресурс для инновационного пути в Украине есть, и он достаточно большой; другое дело, как мы им сумеем распорядиться.
А.М.: — Если мы хотим найти ресурс для инновационного развития в бюджете, то я согласен, что это достаточно тяжелый путь. Надеяться на это и ставить в основу политики не стоит. Мы часто слышим, что бюджет должен выделить столько-то миллиардов капвложений или увеличить расходы на науку. Тогда нам нужно увеличивать налоговое давление и отказаться от снижения налоговых ставок. Как работник Минфина, я могу сказать, что сегодня намного эффективнее вложения могут быть реализованы через самих субъектов хозяйствования, через их взаимоотношения с банками, чем через бюджетное финансирование. Принципиальная позиция Министерства финансов состоит в том, чтобы перейти на программно-целевой метод формирования и исполнения бюджета. Но нам нужно еще лет пять, чтобы все, кто рассчитывает на бюджетные деньги, поняли, что они даются не для того, чтобы содержать какое-то учреждение, а для того, чтобы получить результат. Повторяю, на сегодняшнем этапе бюджет не сможет сказать решающее слово в вопросе инвестиций и инноваций. Мы видим решение в том, чтобы дать возможность экономике, банковской системе накапливать эти средства, кредитовать экономику, а также в том, чтобы бюджетная и фискальная деятельности не препятствовали инновационной модели. Тем более, что мы отдаем себе отчет в том, что в краткосрочной перспективе бюджет после введения нового Налогового кодекса не получит дополнительных доходов. Средства от приватизации могут служить определенным компенсатором потерь от налоговой реформы, но мы наметили и будем стараться не перераспределять их через бюджет, что будет нашим вкладом в осуществление инновационной модели правительства.
А.П.: — В оценке инновационной модели очень многое зависит от того, сторонником какой политики — государственнической или либеральной — является конкретный участник дискуссии. Лично я исхожу из того, что наше государство, как коррумпированное государство, пока следует рассматривать как слабый ресурс. В сильном государстве, где основные действия исходят из целесообразности и нет различных помех, можно разрабатывать и проводить некую государственную политику в области инноваций. Это дает основания думать, что чиновничество в целом проводит какую-то разумную политику, делает разумный выбор и, соответственно, формирует разумное льготное поле в области инноваций. Но у государства, являющегося слабым ресурсом, все деньги, которые будут направлены на инновационную модель (а льготы — это, по сути, такие же деньги, как и прямое финансирование), будут априори использованы значительно менее эффективно, чем те инновации, которые выкристаллизуются в процессе рыночной конкуренции.
И.Ш.: — Я хотел бы сказать, что у государства и правительства, итоги работы которых отнюдь не свидетельствуют об их слабости, — слабость, скорее, коренится в нашем обществе, до сих пор остающемся без национальной идеи, сегодня есть немалый опыт работы в области инноваций. Без этого мы бы не достигли таких положительных показателей, как уменьшение потребления энергоресурсов, снижение энергоемкости ВВП, рост фондоотдачи и т.д. Нельзя не сказать о таком успешном направлении нашей инновационной деятельности, как технопарки, которые работают над решением наиболее перспективных научно-прикладных задач, в которых Украина имеет существенный задел. Очень положительной характеристикой является увеличение трансфертов из-за рубежа в нашу экономику, о которых говорил г-н Геец (в этом году они оцениваются в 1,7 млрд. гривен). И это существенно улучшает наш платежный баланс, а следовательно, и какие-то возможности для финансирования науки, образования, то есть в некотором роде и для нашего инновационного будущего.
Что касается сегодняшних проблем макроэкономики и избранного правительством инновационного пути развития как одного из главных инструментов предотвращения депрессии, то, по моему мнению, инновационная модель также и в первую очередь требует реформирования самой науки, условий ее финансирования, увеличения ассигнований на фундаментальные исследования и внедрение таких механизмов, которые бы способствовали повышению качества научных исследований и роли самой науки в обществе.