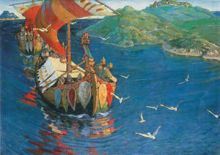Популярная пресса, как и научные издания, часто акцентируют внимание на том, что с конца ХХ в. в общественном сознании господствующее место заняли две реалии: глобализация и идентичность. Обе из них часто трактуются как что-то принципиально новое и неожиданное. Очевидно, здесь выпадает из поля зрения тот факт, что, ограничивая эти феномены во времени и пространстве лишь «вестернизацией» на переломе ХХ и ХХІ вв., мы суживаем тем самым свою способность осознать этот феномен. Камень преткновения, с моей точки зрения, заключается в том, что нам часто свойственно не считаться с исторической эволюцией этих явлений. Не видя системной целостности за отдельными звеньями общественного развития, мы впоследствии ропщем, что ход событий трудно предугадать, а тем более прогнозировать. Непосредственно это касается поиска идентичности современной Украины в нынешних глобальных процессах.
Главный пафос изданного под общей редакцией Ларисы Ившиной монументального сборника под названием «Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди», с моей точки зрения, как раз и заключается в том, чтобы поместить осмысление идентичности Украины в плоскость ее исторического притяжения — Руси-Украины. Вторая особенность — выйти за рамки сугубо политической истории и осуществить анализ феномена наращивания в среде украинского демоса (не этноса, и это принципиально!) системы тех соционормативных ценностей, которые удостоверяют нашу европейскость. Поскольку эта тема неисчерпаема, предлагаю — к высказанным в книге библиотеки «Дня» — еще одну версию происхождения Руси-Украины, опираясь на наработку тех представителей общественных наук, которые мне близкие по духу и методологии исследования.
В ПОИСКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ
Почему мы опять взялись за переосмысление происхождения Руси-Украины? Неужели ученые нашли какие-то новые летописи или принципиально отличающиеся архивные документы? Совсем нет. В первую очередь изменилось наше миропонимание и появились новые вопросы, на которые следует найти ответы согласно современным реалиям. Ведь известно, что исторические источники могут дать ответы лишь на те вопросы, которые мы им задаем.
Переломные времена в истории, которые часто выливаются в своеобразную «социальную смуту», порождают как отчаяние, так и поиски перспективы — «света в конце тоннеля». На протяжении веков эту функцию пытались исполнять церковники, которые претендовали на единоверный и всеобобщающий способ познания истины и утверждения веры в приближение «Царства Божьего» гармонии и социальной справедливости. Правда, в новые времена светские философы (Декарт, Спиноза) бросили вызов теологии и попробовали отделить поиск знания от основных церковных структур. Результаты на первых порах были неоднозначны. Когда в начале ХІХ в. Лаплас преподнес в подарок Наполеону свою книгу о Солнечной системе, тот отметил, что автор книги ни разу не вспомнил в ней о Боге. Лаплас ответил: «У меня не было потребности в этой гипотезе, сир». Тем не менее, должны констатировать, что до конца ХVIII в. в общественном уме философское понимание часто было таким же произвольным источником знаний, как и Божественное Откровение.
В ХІХ в. кризис познания даже вылился в «развод» науки с философией — сторонники «эмпирической науки» отказались признавать себя философами. Соответственно в университетах факультеты философии поделились на два отделения — факультеты «естественных наук» и факультеты «гуманитарные». Первые отдавали преимущество экспериментальным исследованиям, вторые — полагались на интуитивное проникновение в суть вещей, на их интерпретационное понимание. Следовательно, подобное распределение знаний создало серьезную преграду между поисками Истины, с одной стороны, и поисками Добра и Красоты — с другой.
Впоследствии выделяются так называемые «общественные науки», а среди них и история, где одни исследователи склонялись к позитивистскому анализу, а другие — к гуманитарным методам. В целом историки пытались уклониться от формулировки обобщений или исторических закономерностей, акцентировали внимание на самобытности «человеческого фактора», что, в конце концов, и определило их место среди гуманитарных наук. Кроме того, европейские историки ХІХ в. по большей части отдавали преимущество исследованиям прошлого собственной страны, так называемых «исторических наций», история которых была достаточно документируемой.
Поскольку историки ограничивались исследованием прошлого, они мало что могли сказать о текущих проблемах, с которыми сталкивались их государства. Политические же лидеры нуждались все более в информации о современном. Как следствие, в русле идеологии либерализма в общественном сознании воцарилось разделение общества на три социальных сферы: рынок, государство и гражданское общество. Для их изучения следовало разработать методологию, которая в наибольшей степени отвечала бы каждой сфере. Следовательно, рынок стали исследовать экономисты, государство — политологи, а гражданское общество — социологи. Ученые пришли к выводу, что и рынок, и государство, и гражданское общество живут согласно определенным объективным законам, которые следует вывести путем эмпирического анализа. Но здесь опять появилась проблема: как получить «объективное» знание об обществе в целом, а не об отдельной из упомянутых сфер. Историки, которые исходили из постулата об уникальности социальных явлений, здесь мало чем могли помочь.
Кроме того, появились и другие проблемы: выяснилось, что мир состоял не только из «исторических народов» старой Европы и так называемых примитивных «неисторических народов», к которым в ХІХ в. относили и ряд безгосударственных народов Восточной Европы. Кроме них существовали также так называемые «высокие цивилизации» — например Китай, Индия, Персия, Арабский мир. Все эти великие цивилизации в прошлом, а некоторые и для современников, были бюрократическими империями: они охватывали громадные территории, а потому были вынуждены вводить в общественную жизнь общий язык, общую религию и во многом общие обычаи. Поэтому назвать жителей этих империй «примитивными» даже согласно европейским представлениям ХІХ в. было невозможно. Следовательно, опять возникло новое направление в науке — востоковедение. Последующее изучение народов Африки дало толчок к образованию еще одной группы исследователей — антропологов-этнографов. В общем итоге к 1914 г. создалась фрагментарная научная структура, которая продолжала существовать до 1945 г., а во многих своих проявлениях вплоть до 1960-х гг. Мир в их описании распадался на отдельные осколки, а попытки философского осмысления мира в его целостности все чаще воплощались под воздействием трагедий ХХ в. (мировые войны, Холокост, Голодомор, ГУЛАГ) в сюжетах об иллюзорности общественного прогресса как такового.
Образование «мирового социалистического лагеря», самоопределение стран третьего мира, потрясения основ капиталистических ценностей во время студенческой революции в 1968 г. — все это затрагивало вопросы, на которые не могли дать ответ ни востоковеды, ни антропологи-этнографы, ни политологи. Кавардак в научных кругах нарушил традиционные устои общественных наук. Дошло до того, что появился вопрос о научной истине как таковой. В итоге состоялся целый ряд научных дискуссий, которые привели к фундаментальным сдвигам. В частности, во-первых, появился вопрос о том, целесообразно ли отслеживать социальное развитие отдельно взятой страны или лучше взять за единицу анализа большую территорию, в пределах которой происходило разделение труда (например — регион Средиземноморья). Во-вторых, под сомнение был поставлен вопрос о вневременных «вечных истинах» — было предложено учитывать «структурное время» существования определенной системы, а также цикличность процессов в ее пределах. В-третьих, французская школа «Анналов» призывала создать комплексную картину исторического развития, принимая во внимание все социальные сферы, то есть — быть «тотальной». Таким образом, историкам отныне следовало принимать во внимание результаты общественных наук — экономики, политологии и социологии, а представителям этих наук желательно быть более «историческими».
ПУТЬ К МИРОСИСТЕМНОМУ АНАЛИЗУ
Следовательно, выход из кризиса стал усматриваться в создании единой синтезированной исторической общественной науки — миросистемного анализа. Это научное направление начала 1970-х годов связано с именем Иммануила Валлерстайна1. Его принципы, к сожалению, пока еще поддерживает в современном мире меньшинство, даже оппозиционное меньшинство. Иногда миросистемный анализ хвалят, чаще на него нападают и искажают. И не всегда оппоненты новой методологии являются ее прямыми врагами, а часто просто плохо ознакомлены или консервативно настроены. Не в последнюю очередь миросистемный анализ отторгается еще и потому, что его аналитика является своеобразным отображением реального протеста против угрожающей социальной несправедливости и неравномерности развития регионов современного мира, что и является основным политическим вопросом нашего времени.
Тем не менее в 1970-е гг. о миросистемном анализе впервые заговорили серьезно. Новая единица анализа, вместо национального государства, была названа «миросистемой». Считается, что последние существовали в трех ипостасях: мини-системы первобытных обществ, мироимперии времен феодализма и мироэкономика времен капитализма. То есть, речь здесь идет не о мировых (или всемирных) системах, экономиках, империях и т.п., а о системах, которые сами по себе являются миром, хотя обычно — и даже как правило — они не охватывают весь мир.
Именно этот пункт, с моей точки зрения, и должен быть отправным при анализе происхождения Руси-Украины как своеобразной миросистемы, которая представляла собой определенное территориально-часовое пространство, которое охватывало множество политических и культурных единиц, но в то же время было единым организмом, вся деятельность которого была подчинена единым системным правилам. Да и вообще в изложении истории Руси-Украины было бы уместно, с моей точки зрения, руководствоваться положением венгерского (позже — английского) исследователя Карла Поланьи о трех формах экономической организации сообщества: взаимность в минисистемах первобытного общества («ты — мне, а я тебе»), перераспределение в феодальной мироимперии (когда товары поступают снизу вверх, а затем частично поступают вниз), и, наконец, рынок при условиях мироэкономики капитализма (когда обмен приобретает монетарную форму и происходит на общественных площадках).
Основной вывод, к которому приходит Иммануил Валлерстайн и ученики его школы: «национальные государства не могут быть самостоятельной и самоценной единицей изучения, что бы нам не приписывали национальная гордость и министерства науки. Как в астрономии объект исследования в принципе один — Вселенная, так и в социальной исторической науке единицей исследования должна быть вся миросистема. Лишь в рамках миросистемы возникают и могут плодотворно исследоваться две основных институционных опоры современности — государства и рынки»2.
Миросистемный анализ — концепция повествовательная. Ее сторонники придерживаются той точки зрения, что все формы исследовательской деятельности должны использовать повествование (нарратив). Другое дело, что один нарратив отражает действительность лучше, другие — хуже. Придерживаясь принципов тотальной истории и единодисциплинарного подхода, сторонники миросистемного анализа стремятся разрушить жесткие границы между экономическими, политологическими и социально-культурными исследовательскими методиками.
Понятно, каждый нарратив требует свого главного действующего лица. У позитивистов все вертелось вокруг индивидуума, личности. Для классиков марксизма главным героем был пролетарий, а для историков-государственников — политик. Но для миросистемного анализа все эти действующие лица, а также многочисленные социальные структуры — звенья одной цепи. Они рассматриваются не как базовые элементарные частицы, а как составные части системной амальгамы (смеси), из которой они вышли и в соответствии с которой они действуют. Действующие лица свободны в своих поступках, но они остаются частью общего, поскольку их свободу действий сковывают биографические и социальные барьеры.
Еще одно важное обстоятельство для анализа происхождения Руси. Для сторонников миросистемного анализа время и пространство, а скорее МироПространство, не является какой-то внешней неизменной данностью (которая всегда была, есть и будет), в рамках которой существует социальная реальность. МироПространства создаются и постоянно меняются, а социум является «пульсирующим организмом», который то сжимается, то расширяется. Он не меняется на протяжении длительного времени и в то же время меняется ежеминутно. Это, конечно, парадокс, но не противоречие. Поэтому основная задача исторической социальной науки — научиться с этим парадоксом справляться.
АНТИНОРМАНИЗМ КАК ДИАГНОЗ
Каким же является основной нарратив Руси и кто занимает центральное место среди главных героев этого повествования? Придумывать здесь что-то новое нет необходимости: трижды на протяжении трех последних веков в России загорался с новой силой спор норманистов с антинорманистами вокруг проблемы варягов: в XVIII в. (борьба Г.Миллера против М.Ломоносова в Академии Наук); в ХІХ ст. (публичная дискуссия М.Погодина и Н.Костомарова в Петербуржском университете); а с 1965 г. полемика Л.Клейна и И.Шаскольского. Речь шла о той роли, которую сыграли варяги (норманны) в становлении Руси.
Не считаю себя специалистом по этому вопросу, а потому возведу свою роль к популяризации авторитетных суждений академика четырех академий (американской, турецкой, финской и украинской) Омеляна Прицака, которого считаю своим наставником на пути историософских исследований и светлую память которого хотел бы почтить, представив в этой публикации для газеты «День» хотя бы в тезисном изложении его виденье происхождения Руси (любознательного читателя отсылаем к его книге объемом более чем в тысячу страниц под названием «Походження Русі», которая вышла в издательстве «Обереги» в 1997 г.).
По оценке О. Прицака, «двухсотлетнее норманистско-антинорманистское противостояние оказалось бессильным в решении проблемы происхождения Руси». Это мнение покойного академика перекликается с суждениями последнего «возмутителя спокойствия» вокруг проблемы норманнов Л.Клейна. Он считает, что никакой норманнской теории или хотя бы научной концепции вообще не существует, просто есть «гипотезы об этнической идентификации варягов, о той или другой мере участия скандинавов в древней истории нашей страны». Что же касается антинорманизма, то он не представлен ни в одной стране мира, кроме России, хотя завоевания скандинавов были по всей Европе даже за ее пределами. В России же, по оценке Л.Клейна, «это не научное течение, а идеологическая тенденция, которая внедряется в науку из соображений, которые представлены как патриотические. Это характерный именно для нашего народа комплекс национальной неполноценности, корни которого следует искать в современной ситуации». От себя скажу, что поскольку мы здесь ступаем на скользкое для украинцев поле относительно комментирования российских комплексов, то отвлечемся от «современной ситуации» в России и просто примем во внимание то мнение Л.Клейна, что «не все гипотезы в случае подтверждения становятся теориями, многие из них становятся не теориями, а фактами. Спор идет о фактах»3.
Поэтому о некоторых фактах в изложении Омеляна Прицака. В первую очередь о термине Русь и его «национальном» наполнении. Действительно, под 839 г. в «Бертинских анналах» вспоминается правитель политической организации, названной термином Росс (Rhos — визант). Арабский автор Ибн-Хордадбег, который исследовал торговые пути в Евразии, также сообщает, что существуют две международных компании — иудейские Раданиты, контролировавшие пути в Хазарию, а также неиудейские Рус (Rus), контролировавшие торговлю на севере Восточной Европы. О.Прицак ставит полностью подходящий вопрос: как русы, которые едва вынырнули из безызвестности, могли оказаться такими ловкими международными торговцами, что захватили под свой контроль громадный регион?
Объяснение выдающегося ученого таково. С разделением Средиземного моря между христианами и мусульманами (прим. 660 г.) ни те, ни другие уже не могли свободно путешествовать или вести торговлю по морю, находясь в перманентном состоянии войны. Эту нишу заполнили бывшие римские горожане иудейской веры, которые имели возможность безопасно плавать от Марселя вплоть до Хазарии. Между тем их неиудейские торговые конкуренты (фризы в сотрудничестве со скандинавскими вождями) попробовали найти пути к Евразии в обход — через Балтийское и Белое моря. Они образовали своеобразное общество морских кочевников и в конце ІХ в. выступали как викинги. В это же время балтийскими вендами, которых соседи впоследствии стали называть кривичами, были колонизированы определенные территории на востоке и основаны два важных торговых поселения — Полоцк и Смоленск. Со временем эти и другие поселения превратились в города-государства, которые стали приглашать к руководству опытных торговых и военных «менеджеров» — членов балтийских харизматичных кланов. Одним из объединений городов была конфедерация Старой Ладоги, Белоозера и Изборска. Каждый город представлял свою этническую группу: Старая Ладога — эстов; Белоозеро — вепсов (весь); Изборск — славянских вендов. В середине ІХ ст. они «пригласили на правление» — то есть признали власть — фризско-датского короля Рерика (Рюрика).
А теперь о самом главном — об этническом факторе в процессе зарождения государственности Русь, возглавляемой представителями торгового общества Rus. Позиция О.Прицака по этому вопросу такова: «Общества Балтийского региона, которые теперь развивались, конечно же не составляли национальную культуру в современном понимании. Даны, фризы и русы были полиэтнической, многоязыковой, безтерриториальной общностью морских кочевников и жителей отчасти «восточных», а кое-где полисных городов и торговых поселений. Русы и фризы выступали международными торговцами, что подтверждает теорию о создании рынка как экономической организации именно торговцами, а не крестьянами или ремесленниками». Два последних, как представители общества «низшей» культуры, еще не знали литературы или сакральных текстов — основу культуры более «высокой». На то время не была четко очерчена и территория владений Руссов.
В городских торговых поселениях пользовались несколькими языками в зависимости от функций. На местном языке общались семьи или роды, а два или больше linguae francae служили для профессионального потребления. Следовательно, делает вывод О.Прицак, «говорить о шведской национальной культуре ІХ—Х вв. нет смысла. В балтийской общности все ее составляющие элементы — норманны, венеды (славяне), балты и финны — были равнозначными... Стало обычаем (известным через Рюриковичей) иметь два или больше имен, в соответствии с профессиональными или супружескими связями».
1 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение. — М.: Издательский дом «Территория будущего». — 2006. — С. 247.
2 Там же. — С.29.
3 Клейн Л. Антинорманизм как диагноз // http://polit.ru/article/2010/12/03/ klejn_antinormanism/print/