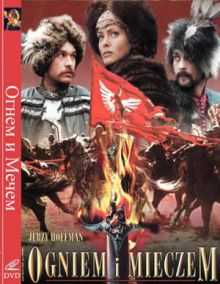История — это, не в последнюю очередь, творение образа Другого. Другого человека, другого сообщества, в конечном итоге — другого народа. Образ же народа (особенно, если идет речь о многовековом соседе, партнере, а в то же время и враге — прошлое дает нам немало таких странных примеров), который давно уже живет рядом, за хрупкой линией границы (а когда-то, возможно, границ не было, а государство было общим) — этот образ не является лишь малозначимой абстракцией, которой можно легко пренебречь. Напротив, этот образ Другого влияет на событийный ряд истории — едва ли не на важнейшую ее составляющую — и хотя бы из-за этого заслуживает серьезного внимания.
Драматичный ход польско-украинских отношений XVI—XX веков, трагическое переплетение кровавых противостояний, религиозных, межэтнических, экономических и разнообразных других конфликтов, а, с другой стороны, исторически продолжительного союза против многочисленных противников (об этой традиции тоже ни в коем случае нельзя забывать) — достаточно убедительное подтверждение сказанному. Восприятие украинцев в сознании поляков (и наоборот) всегда было тем важным фактором, который определял конкретные действия той или иной стороны, формировал будущие модели наших отношений, которые впоследствии, собственно, и реализовывались. Если же говорить об образе Украины, ее истории, характере народа, то ощутимое влияние на «вызревание» этого образа в умах поляков оказало творчество знаменитого романиста (прежде всего — исторического романиста) Генрика Сенкевича. Вот почему художественное наследие этого большого писателя стоит серьезного анализа — особенно его солидный украинский «сегмент».
Следует иметь в виду, что знаменитая историческая трилогия Сенкевича («Огнем и мечом», 1883, «Потоп», 1884—1885, «Пан Володиевский», 1886) наполнена украинскими мотивами, а действие первого из этих романов («Огнем и мечом») вообще происходит почти исключительно на фоне украинских военных реалий времен Хмельнитчины (точнее, идет речь о 1648—1649 годах). Прибавим еще, что трилогия очень быстро, уже вскоре после публикации, была переведена едва ли не на все европейские языки и стала за рубежом общепризнанной «визиткой» польского исторического опыта, даже в известной мере — польского национального характера. Если же учесть, что написаны все три романа пером действительно выдающегося мастера слова (Сенкевич блестяще умел заинтересовать читателя головокружительными хитросплетениями непредсказуемого сюжета, создавать яркие, живописные характеры героев, всегда готовых отстаивать Честь, Государство, — читай, Короля и Веру, и отдать за них жизнь), то можно представить себе, что в данном случае мы имеем дело не просто с феноменом литературы, но и с явлением общественного сознания. Тем более есть необходимость внимательно разобраться в историографической концепции писателя, в ее украинской составляющей — в первую очередь.
Уже в конце ХІХ в. ряд критиков и писателей (среди них был, например, и Болеслав Прус, сам незаурядный мастер исторической прозы) заметили, что Сенкевич, в сущности, создал — на действительно высоком художественном уровне — польский патриотический миф, или же «миф шляхетской Польши». Впрочем, влияние исторических мифов на национальную историю конкретной страны — это тема для отдельного серьезного разговора; заметим только, что такие мифы могут, как направлять нацию на исторические окольные пути, так и вдохновлять ее на осуществление, казалось бы, невозможного. В то же время несколько ведущих украинских историков (в частности, Владимир Антонович) выразили резкий протест против «антиказацкого» (по мнению Антоновича, в сущности, антиукраинского) мифа, который создается на страницах трилогии. Критика была весьма острой; рассмотрим ее подробнее.
Сенкевич, считал Антонович, полностью безосновательно восхваляет и возвеличивает государственный строй Речи Посполитой XVII в. как символ цивилизованной государственности, гарантию личных свобод граждан (в действительности, как справедливо указывали оппоненты, прежде всего шляхетского сословия) и своеобразный барьер против «казацкого варварства». Автор трилогии абсолютно неправомерно приписывает шляхте такую себе «цивилизаторскую миссии» на украинских землях вопреки тому, что в действительности шляхта закрепостила народ, приватизировала в свою пользу львиную долю земельной собственности, принесла более жестокое религиозное порабощение (в то время как Сенкевич вообще отрицал религиозные мотивы казацких восстаний).
Что касается представления романистом социальной структуры коренного населения юго-восточных окраин тогдашней Речи Посполитой (то есть структуры украинского общества), то, гневно замечает Антонович, она у Сенкевича больше похожа на «записки какого-то легкомысленного путешественника по Австралии или Центральной Африке», чем на правдивые картины украинской жизни. Собственно, никакой структуры у Сенкевича вообще нет — есть только дикая, хищная, безудержная толпа, безграничная в своей ярости и жестокости (причем, показательно, что польская сторона конфликта, как видно из страниц самой трилогии, так же применяла жестокость в подавлении восстания, и несправедливо со стороны автора ставить этот факт в вину одной стороне и в заслугу другой). А человеком, который искусно манипулирует настроениями и кровожадностью толпы, был, по Сенкевичу, гетман Богдан Хмельницкий.
Именно на его образе художник сосредоточил всю ненависть, которая накопилась в душах шляхтичей XVII в. Причем Антонович справедливо считал, что такое толкование образа Хмельницкого (изменник присяги на верность королю и Речи Посполитой, злобный мститель исключительно за личную несправедливость, а не борец за свободу Украины, коварный, хитрый деспот) неопровержимо демонстрирует, что ни сам автор, ни его преданные читатели «ни на волос не продвинулись на пути европейского прогресса в течение двух с половиной веков и до сих пор приносят жертвы религиозным, сословным и национальным кумирам, которые стояли на алтаре Речи Посполитой в XVII в.». Личная месть, подчеркнул Антонович, неспособна поднять народ на борьбу, только общее притеснение, насилие и унижение достоинства миллионов людей могут вызвать мощную реакцию народа.
Чтобы не быть голословным, приведем, возможно, слишком длинный, однако выразительный фрагмент романа «Огнем и мечом». Действие начинается с момента, когда главный герой произведения, шляхтич Скшетуский, идеальное воплощение всех рыцарских добродетелей, прибывает на Запорожье, чтобы вручить (от имени своего патрона, князя Еремии Вишневецкого, кстати, безгранично идеализируемого Сенкевичем, и от имени Речи Посполитой в целом) грозное «предупредительное письмо» в адрес «мятежника» Хмельницкого, конечно же, попадает в плен к казакам — и предстает перед самим восставшим гетманом. Хмельницкий, которому Скшетуский несколько месяцев назад спас жизнь, должен платить добром за добро и освобождает пленного шляхтича, однако требует от него слова, что тот не расскажет Вишневецкому и великому гетману Потоцкому о приготовлении казаков. Ведь, говорит Хмельницкий своему бывшему спасителю, «»і життя моє, і благополуччя всього Запорізького Війська зараз у тому, щоб великий гетьман не пішов на нас усіма силами, що він неодмінно зробить, якщо ти йому про наші приготування розповіси, так що, коли не даси слова, я тебе не відпущу доти, доки не відчую себе достатньо впевнено. Знаю я, на що замахнувся, знаю, яка страшна сила протистоїть мені: обидва гетьмани, грізний твій князь, один цілого війська вартий, та Заславські, та Конецпольські, та всі ці королята, що на карку козацькому стопу утвердили! Воістину чимало я потрудився, чимало листів понаписував, перш ніж удалося мені підозріливість їх приспати — так чи можу я тепер дозволити, щоб ти розбудив її? Якщо і чернь, і городові козаки, і всі утиснуті у вірі та волі виступлять на моєму боці, як Запорізьке Військо і милостивий хан кримський, тоді припускаю я подолати ворога, бо й мої сили значними будуть, та найбільше покладаюсь я на Бога, котрий бачив кривди і знає невинуватість мою».
«Хмельницький вихилив чарку — продолжал далее Сенкевич — і почав занепокоєно походжати навколо столу, пан же Скшетуський зміряв його поглядом і, налягаючи на кожне слово, сказав: — Не богохульствуй, гетьмане запорізький, на Бога і на його заступництво розраховуючи, бо воістину тільки гнів Божий і найскорішу кару накличеш на себе! Чи тобі личить звертатися до Всевишнього, чи тобі, котрий через власні кривди та приватні чвари таку страшну бурю здіймає, роздмухує полум’я усобиці чи з бусурманами проти християн об’єднується? (Речь идет о союзе Хмельницького с крымским ханом. — И. С.). Чи переможеш ти, чи виявишся переможеним — море людської крові та сліз проллєш, гірше сарани землю спустошиш, рідну кров поганим у неволю віддаси. Річ Посполиту похитнеш, монарха образиш, вівтарі Господні сплюндруєш, а все тому, що Чаплинський хутір у тебе відняв, що п’яним погрожував тобі! Так на що ж ти руку не піднімеш? Чого заради власного зиску не принесеш у жертву? На Бога покладаєшся? А я, хоч і перебуваю у твоїх руках, хоч ти мене життя і волі позбавити можеш, істинно говорю тобі: сатано, не Господа в заступники прикликай, бо тільки пекло допомагати тобі може!
Хмельницький почервонів, схопився за руків’я шаблі та глянув на полоненика, наче лев, який ось-ось загарчить і кинеться на свою жертву. Одначе він стримався. На щастя, гетьман не був поки що п’яним, але охопила його, здавалося, підсвідома тривога, здавалось, якісь голоси благали в душі його: «Зверни з дороги!» — бо раптом, наче бажаючи спекатися власних думок або переконати самого себе, почав говорити він ось що: «Пеклом лякаєш мене, про зиск мій і зрадництво мені проповідуєш, а звідки ти знаєш, що я лише за власні кривди помститися йду? Де б я знайшов соратників, де б я взяв тисячі ці, котрі вже перейшли на мій бік і ще перейдуть, якби власні лише борги стягнути зібрався? Подивися, що на Вкраїні твориться. Гей! Земля-годувальниця, земля-матінка, земелька рідненька, а хто тут у завтрашньому дні впевнений? Хто тут щасливий? Хто віри не позбавлений, волі не втратив, хто тут не плаче і не стогне? Тільки Вишневецькі, та Потоцькі, та Заславські, та Конецпольські, та Калиновські, та жменька шляхти! Для них староства, чини, земля, люди, для них щастя і безцінна воля, а решта народу в сльозах руки до неба заламує, сподіваючись на суд Божий, бо й королівський не допомагає! Скільки ж — шляхти навіть — нестерпного їх гніту не вміючи стерпіти, на Січ утікає, як і я втік? Якої такої вдячності діждалося Військо Запорізьке за свої великі послуги, у численних війнах надані? Де козацькі привілеї? Король дав, королята відняли. Наливайка четвертовано! Павлюка у мідному бику спалено! Ще не зарубцювалися рани, котрі нам шабля Жолкевського та Конецпольського завдала! Сльози не висохли по убієнних, обезглавлених, на палі посаджених! І ось — дивись — що на небесах світить! — Тут Хмельницький показав у віконці палаючу комету. — Гнів Божий! Бич Божий! І коли судилося мені на землі бичем цим стати, хай здійсниться воля Господня! Я цей тягар на плечі приймаю».
Эта речь Хмельницкого интересна тем, что, несмотря на всю свою очевидную тенденциозность (в уста Скшетуского Сенкевич явно вкладывает свои мысли), большой польский писатель сумел ярко воспроизвести лозунги, с которыми обращается к мятежному народу любой харизматичный лидер (не только гетман Богдан и не только в XVII в.; главный аргумент: не может «горсточка шляхты» господствовать над великим народом, «шляхта» же здесь — термин собирательный, который допускает разную, в частности, и современенную интерпретацию). Поэтому, мы можем — и должны — не соглашаться с «шляхетскими мифами» Сенкевича, однако необходимо признать, что его трилогия — тоже неотъемлемая составляющая, без которой нет целостного знания о той кровавой эпохе.