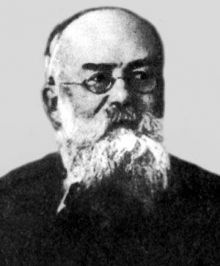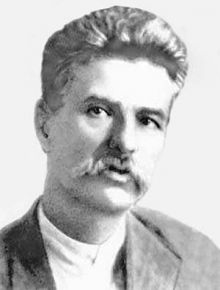Почему дневники как разновидность исторического источника (а они являются именно историческим источником), не будучи объективным «зеркалом» в свое время, все же дают уникальную возможность (если, конечно, имеется соответствующий масштаб фигуры автора) воспроизвести поражающую панораму той или иной эпохи — в сознании как читателя, так и, довольно часто, профессионала-исследователя? Потому что личность «пропускает» через себя боли, взрывы и вихри времени, его, времени, величие и мизерность, героизм и подлость, высокие идеалы и предательство, закамуфлированные половой «правильных» фраз... Действительно выдающаяся личность подключает свое сердце под высоковольтный ток истории.
Именно таким человеком был в общественно-политической жизни Украины Сергей Александрович Ефремов (1876—1939), академик, выдающийся ученый-филолог, историк литературы, организатор науки, публицист и редактор первых свободных украинских газет («Громадська думка», «Рада», «Нова Рада»), заместитель Председателя Центральной Рады и руководитель Секретариата по вопросам национальных дел (1917 г.), вице-президент Всеукраинской Академии наук (1922—1928 гг.), фигура, которая пользовалась совершенно законным уважением и признанием даже ожесточенных политических противников. Однако с течением времени становится все понятнее, что ценнее всего духовное приобретение, которое академик С.А. Ефремов оставил нам, своим потомкам — это не столько «История украинской литературы» (абсолютно новаторский труд, основополагающие положения которого до сих пор не потеряли своего значения), не столько фундаментальные исследования творчества Шевченко, Кулиша, Коцюбинского, Грабовского, Панаса Мирного, Нечуя-Левицкого, Свидницкого (и соответственно — научные обоснованные издания их художественного наследия), сколько «Дневник» (в первую очередь те его разделы, что относятся к 1923—1929 гг.), потому что речь идет об удивительном явлении духовного Сопротивления независимой украинской интеллигенции (чтобы быть точным — персонально Ефремова) большевистскому тираническому антинациональному режиму, суть которого академик видел предельно ясно, не имея никаких иллюзий ни относительно «украинизации» (в отличие от М.С. Грушевского), ни относительно возможности «честного сотрудничества» беспартийных ученых с советской властью, ни относительно перспектив демократического возрождения украинской государственности при существующем режиме (это невозможно в условиях, когда во всех учреждениях, учебных заведениях, на всех предприятиях все контролируется органами ГПУ и его «добровольными помощниками», не в последнюю очередь из молодых людей, которые воспевают «чекистов», — и это Ефремов с безграничной горечью и грустью фиксирует в своем «Дневнике», задаваясь страшным вопросом: «Что же ждет эту молодежь? И что ждет Украину, всех нас?»). Потому что речь идет не просто о «Дневнике» — об удивительном сплаве на удивление трезвой и жесткой публицистики (Ефремов, человек с непростым характером, дает на этих страницах, мягко говоря, «неприглаженные», некомплиментарные оценки деятелям нашей культуры, в частности и таким славным, выдающимся фигурам, как Лесь Курбас, Агатангел Крымский, тот же Михаил Грушевский), «субъективной летописи» трагических событий 20-х годов (Сергей Александрович вел свой «Дневник» строго регулярно, как правило, внося новые записи ежедневно или через день), в конечном итоге, эмоционального «крика души» человека, который испытывал неописуемые интеллектуальные и этические страдания (вот характерная запись: «Я знаю — это временное. Я знаю — это сгинет, как воск на огне... Но досада, боль, обида за слово человеческое, которое снова оказалось в тисках мертвой руки, сжимают сердце...» — речь здесь, конечно, о новейшей цензуре, которая, по меткому наблюдению Ефремова, оказалась страшнее царской — потому что предыдущая власть, в отличие от большевистской, «не додумалась» соединить функции цензора и «редактора» в одном лице!). Поэтому «Дневники» обязательно надо читать и знать в наши дни, особенно молодежи. И тогда не в холодных абстракциях, а в реальных, угрожающих, кроваво-красных красках предстанут черты тоталитарного режима. И тогда будет вполне понятно, почему этот режим прятал «Дневники» от людей, «заточив» их в закрытых фондах КГБ — вплоть до января 1990 года), а опубликованы они были, причем преступно малым тиражом, только в 1997 году, и до сих пор, в сущности, не прочитаны). И тогда просветлеет их значение — как описание тоталитарного режима (в духе Оруэлла) и лекарств от него.
Почему академик Ефремов был и остался непримиримым противником большевистско-чекистской власти? Он сам на страницах «Дневника» дал достаточно четкий ответ на это. «Не раз, а, может, сотни раз ставил я перед собой вопрос: а, может, я ошибаюсь относительно большевиков; может, мое старое существо просто не понимает «новых» требований времени, может, мой «старый» мех «нового» вина не вмещает? Может, с моей стороны просто несправедливо то отвращение, которое чувствую к этим «героям нашего времени»? Тяжелый этот вопрос, и тяжелые переживания. Но когда передо мной становятся те — ложь, провокация, хвастливость, пошлость, которые составляют главные черты большевистской системы, — то ответ один могу дать: не принимаю систему на лжи и провокации, на мировом дурачестве основанной. Даже кровь, насилие, если откровенное и искреннее — можно понять, если не простить. Но не ложь, не лицемерие, не провокацию — отвратительные знаки растленного режима. И он должен погибнуть. На гнили ничего твердого не построишь».
В «Дневнике» (в этом и заключается его ценность) находим целую галерею тех «героев нашего времени», о которых пишет Ефремов. Вот запись от 4 января 1924 года: «По городу» (Киеву. — И.С. ) рассказывают о том, как справлял кооперативный техникум Новый год. Началось с пышных речей, обычных лозунгов, агитационной словесности, а закончилось генеральным пьянством. Пировали до 4-х часов. Напились «до состояния риз». Пропили 2.500 карб. Золотом. В конце пира были такие сценки. Встает ректор (коммунист). «Выпивать — это самое большое коммунистическое дело. Еще во втором томе «Капитала» Маркса, в примечании на странице...». Его дергают за полу и шепотом говорят, чтобы он перестал и шел спать. «Мне говорят, что я пьян и что нужно идти спать. Ну, хорошо, — пусть в другой раз подробнее расскажу, что есть выпивка».
Кое-кто, читая, может сегодня воспринять этот эпизод с улыбкой. Но не до смеха было Ефремову — он видел вульгарное, никчемное обличие людей, которые претендовали на «высшую идейность». А вот другой случай — и чувствуешь, как автор уже не может сдержать безумный гнев.
Запись от 9 января 1924 года. «Вчера в «Большевике» (партийный орган. — И.С. ) ряд статей о Христе. Особенно обращает на себя внимание «Жизнь Иисуса так, как было» какого-то М. Слюсаренко. Это что-то такое беспамятно глупое и бессмысленное, что даже среди советской литературы этого сорта бросается в глаза. Злость аж капает, но зубов не хватает. Особенно мне понравилось, что автор играет на слове «байстрюк». Подумаешь, какие высоконравственные люди из этих господ! Вот факты. В Ленинском городке (детский приют в прежней Дегтяревке) недавно сделано девочкам-воспитанницам 80 абортов, некоторым всего 14—15 лет. На воспитанниц других приютов люди пальцами показывают, замечая грубые состояния (это было на Подоле). И это следствие системы. Ребят и девушек по приютам кладут спать рядом, а среди них же есть совсем взрослые. На днях в одну из бурс киевских пришла с ревизией начальница над приютами, молодая женщина, и сделала выговор: «Ваша бурса существует уже три года, а почему до сих пор у вас ребята и девушки спят врознь? Нужно класть через одного: парень-девушка, парень-девушка». В той бурсе живут не только маленькие, но и студенты и студентки вузов...».
Запись от 30 сентября 1923 года. «Сегодня прислана за мной лошадь из «Гос. издательства», чтобы приехал на совещание об издании украинских книг. Вон как! То было и слушать не хотели, а это предотвращают (напомним: Ефремов тогда — вице-президент Академии наук и тогда такие представители власти, как Раковский, Чубарь, Каганович «предлагали» ему «сотрудничество», на что он отвечал категорическим отказом, игнорируя притворное удивление этих «кормчих»: «Ну, за что вы нас так не любите?». — И.С. ). Ничего не поделаешь — «украинизация», хотя и паршивая, потому что более на словах, чем на деле. Планы широкие: едва ли не всех наших писателей собираются издавать. Но не верю я этим планам, потому что каждый раз у них кончается «пшиком». Хотели меня избрать председателем литературной секции — отклонил эту честь, сказав, что мне, как некоммунисту, не подобает. Законфузились и начали выезжать на комплиментах. Относительно планов, то сказал, что поверю в них только тогда, когда допечатают Коцюбинского (ІІІ—V тома полтора года лежат).
Запись от 22 мая 1925 года. «Чиновник книжки делать не может. Он ее не знает, не любит, не понимает, не заботится».
Запись от 25 февраля 1924 года. «Не анекдот, но всякого анекдота лучше. Получил документ в ВУЦИК (высший орган Советской власти в Украине. — И.С.) в адрес Академии. Читаю, в частности, такое: «Вместе с тем Секретариат ВУЦИК выражает свое удивление по поводу того, что Всеукраинская Академия наук игнорирует распоряжение Советского Правительства относительно равноправия языков и самого широкого развития украинского языка на Украине». Подписали: Буценко, Зорин. Давно я так не смеялся весело, как тогда, когда читал этот документ! Жаль, что нельзя ответить Буценкои с Зориным, что практика у них в ВУЦИКе была до сих пор такая, что украинские бумаги просто не читали и нашим делегатам еще в прошлом году заявляли, что зачем, мол, пишете на языке, которого мы не понимаем?... И вдруг — вот какой, с Божьей помощью, поворот случился: советские обрусители защищают украинский язык от меня. Ну, как же не обрадоваться?».
Запись от 2 марта 1924 года. «Готовятся люди к годовщине Шевченко. Одна украинская школа обратилась к «Политпросвите» (есть такое учреждение с функциями, как и большинство теперь учреждений, жандармско-шпионскими) за костюмами. Оттуда требование — давайте программу школьного праздника. Дали. «Этого мало, — говорят, — давайте и самого «Кобзаря»: его нужно почистить». Понесли дети «Кобзаря», почищен он в «Политпросвите», а затем отослан еще и в ГПУ на окончательное утверждение. Почистили и в ГПУ. Теперь Шевченко еще раз вычищен. Такие фразы, как
«Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани —»
выброшены, хотя советским цензорам и пробовали доказать, что поэт же говорит: «не вернеться, не встануть»; Бога также выбросили; вся «Екатерина» перечеркнута «за шовинизм» («кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»!) и т.п. Гадское фарисейское: с одной стороны понавесили везде портретов Шевченко, а с другой — уничтожают его произведения способом далеко глупее, чем царская цензура это делала. Как везде, как во всем — господствует лицемерие и бескрайняя, неисчерпаемая «пошлость», которой нестерпимая печать лежит на всех советских начинаниях. И на антисоветских также».
Запись от 1 мая 1923 года. «Целый день работал в саду ради рабочего праздника. День замечательный. Надо мной кружат и цокочут аэропланы, из города доносятся пение, музыка. Мысли обсели голову, воспоминания былого. Того ли хотелось-надеялось, когда в давние времена мечталось об этом празднике?.. А теперь — праздника нет на душе. Все убила проклятущая казенщина, официальщина, принуждение. И свободный праздник свободного рабочего обернулся в принудительное сборище рабов, на которое силой сгоняют участников. Странно, как казенная рука умеет испохабить лучшие мечты человеческого сердца, очерствить и убить наивысшие порывы. Мерзость запустения на месте святом. А казенные перья будут выписывать завтра официальные восторги!».
Запись от 20 марта 1924 года. «О, среди какой темной ночи мы живем! И кому верить, когда самый первый приятель продаст, будет предавать, угородит нож в спину...».
Запись от 3 мая 1928 года. «Ну и жизнь! К какой мерзости дошло уже! Не раз проходит давняя моя, еще с 1920 г., мысль: beati mortui («блаженны мертвые»). Но никогда еще не переживал я такое обжигающее чувство стыда за все и всех. Никогда так остро не крутило мозг это «beati mortui». Потому что уже уголка не оставила жизнь, где ты мог чувствовать себя человеком».
Запись от 12 апреля 1924 года. «Студенчество, юноши, соль земли; свои резолюции заканчивает призывом: «Да здравствует ГПУ!». Делается такое, чему имя нельзя подобрать на ни одном из человеческих языков...».
Запись от 8 апреля 1929 года. «Думал когда-то я, что наше поколение будет последним, которое воспитывается по тюрьмам. Ошибся... Продают режимы, а методы все те же, даже ухудшились... Бедная, несчастная молодежь, которая опутана шпиками и провокаторами. Что еще ее ждет, да и всех нас, жителей этой рабской стороны проклятой?».
Запись 1928 года. «На колени я не встану, каяться не буду — следовательно, перспектива проясняется: путешествие и, по-видимому, неблизкое, пахнет...».
* * *
Именно так и случилось, как писал академик Ефремов. Сергей Александрович был арестован 21 июля 1929 года по обвинению в «контрреволюционной деятельности», которая проявлялась, в частности, в том, что он якобы создал и возглавил Союз освобождения Украины (СОУ), который ставил, дескать, целью свержение Советской власти в Украине, в частности и путем иностранной интервенции. Неоценимую услугу чекистскому «следствию» предоставил довольно близкий Ефремову человек, студент Николай Павлушков, который показал сотрудникам ГПУ то место, где академик тайно хранил свои «Дневники».
После этого судьба Ефремова была решена. Был еще «образцово-показательный», знаковый для последующей истории Украины, инспирированный Сталиным процесс по делу «СОУ» (март-апрель 1930 года). Приговор академику — 10 лет лишения свободы. Живым из заключения он уже не вышел (приблизительная дата гибели — 31 марта 1939 года).
Есть одна вещь, которая совершенно мешает рассматривать «Дневники» Ефремова как достояние исключительно истории и культуры. А именно: слишком много аналогий с современностью — тотальная ложь, «пошлость» (как говорят по-русски), развращение молодежи, цинизм, властолюбие... Чтобы извлекать уроки из истории — нам необходимо точное знание истории. Это требование еще недостаточно, но абсолютно необходимо.