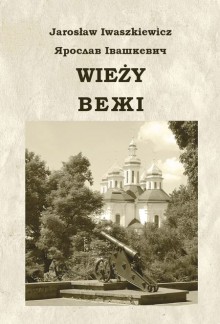Ярослав Ивашкевич (1894—1980) был величайшим писателем ХХ века, — и не только польским. Ведь родился он на Винничине, учился в Киеве, дружил со многими украинцами, оставил много произведений на украинскую тему и переводов украинских поэтов (в частности, своего приятеля Евгения Маланюка). Очевидно, писатель все же имел (употребляя современную терминологию) «двойную идентичность», продолжая традицию тех поляков с украинского Правобережья, для которых легенда о казаке Вернигоре и о стране, которая «течет молоком и медом», имела не меньшее значение, чем основы собственной польскости.
Следовательно, то, что Ивашкевич был (по крайней мере, в известной степени) и украинцем тоже — не будет отрицать даже большинство серьезных польских исследователей. А вот то, что он был великим писателем — доказывать придется сегодня несколько дольше. Ведь он на протяжении десятилетий был еще и частью «официальной витрины» ПНР — возглавлял Союз польских писателей, был депутатом (хотя и беспартийным) контролируемого коммунистами сейма, лауреатом Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Такого сегодняшняя Польша (по крайней мере, ее часть) не прощает. Следовательно, стихотворения Ивашкевича не представлены в обеих (очень хороших и репрезентативных!) антологиях польской поэзии, изданных в Варшаве уже в новом тысячелетии, которые есть в домашней библиотеке автора этой рецензии.
Но рецензированная книга удостоверяет еще раз очевидное: Ивашкевич все же был великим поэтом, уровня Милоша и Шимборской, который действительно не получил Нобелевскую премию по литературе в основном по политическим соображениям. Это позволяют понять не только оригиналы (издание — «билингва»), но и переводы Дмытра Павлычка, где адекватно воссоздана вся поэтическая палитра Ивашкевича: от юношеских попыток — через эстетику «Скамандра» — до мудрых поздних текстов, где звучит физически ощутимая тоска прощания с миром:
«Добраніч, квіти небесні, добраніч,
рожева зірко,
Добраніч, птахи в блакиті, добраніч,
трояндо розквітла!
Добраніч, вечірня тишо, де звук
пролітає стрімко,
Добраніч, душе, де холоне й поволі
зникає світло.»
(«Остання пісенька мандрівного підмайстра»)
Сразу напомним давно известное: Дмытро Павлычко — смелый переводчик, в том понимании, как употребляли этот термин Мыкола Зеров и Максим Рыльский. В выборе между буквалистичным воссозданием всех особенностей оригинала (задача с самого начала нереальна!) и построением раскованного и естественного поэтического образа, который отвечает поэтике этого оригинала, поэт неизменно выбирает второе. Дословно последняя строка у Ивашкевича звучит так: «Добраніч, тіло гаряче, добраніч, душе, що холоне». Кто-то будет сожалеть об утраченным в поэтическом переводе противопоставлений (тоже довольно важным). Но большинство просто порадуется целостности всей этой прекрасной строфы, которая в совершенстве передает самое главное: настроение прощания старого поэта со всем, что было для него важно.
ДЛЯ КАЖДОГО СТИХОТВОРЕНИЯ — СВОИ КРАСКИ
Для перевода Дмытро Павлычко выбрал не только тексты, которые представляют разные этапы развития поэзии Ивашкевича, но (что само собой разумеется) — стихотворения, связанные с Украиной, от ранних шкицев до написанного в год смерти триптиха «Вежі» (что и дал название книге). В нем, как будто в подтверждение сказанного выше о двойной идентичности польского поэта, возникает церковь святого Дмитрия — «кривавих сорочок ножів сумна колиска» — и вечный мистический казак Вернигора. Причем для каждого стихотворения — и для раннего романтичного этюда Киева или Подолья, и для позднего маленького шедевра «Александрійська трилогія» (что выразительно перекликается с подобными маленькими шедеврами Кавафиса) — переводчик находит свои особенные краски.
Об этой «Трилогии» хочется сказать отдельно: ведь образ верного пса, который случайно пережил своего властелина Дария, картины самоубийства Клеопатры и смерти Александра, — обо всех временах и для всех времен. Порой одна-две строки здесь («Чи міг я знати, що нова епоха розпочалася? / Пси епох не знають»; «Я спробувала їхній сік, звичайно, / на служницях»; или «Ах, що за пишні будуть ігри / на похороні тому) в концентрированном виде содержат то, о чем бы менее талантливый стихотворец написал много строф.
Книгу удачно дополняют преисполненное настоящей юношеской страсти послесловие мудрого старого переводчика и его — тогда еще молодого — переписка со старым польским Мэтром.
Конечно, каждое книжное издание имеет свои недостатки. В этом — достаточное количество элементарных печатных ошибок в польских текстах. Даже последнюю букву на титульной странице в польском варианте названия пришлось заклеивать. Случаются ошибки и в украинских текстах. Причем хорошо, когда они очевидны. Но, скажем, встретив на с.117 «шарпливе ложе з льоху», читатель только с помощью польского оригинала может понять, что шла речь, очевидно, о «ложе изо мха». Хорошо было бы, если бы для следующего издания все те ошибки были исправлены.
Надеюсь, что это следующее издание потребуется: слишком яркая и хорошая получилась поэтическая книга. Поэтому в конце следует поблагодарить инициаторов и исполнителей проекта «Библиотека польской литературы»: Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко, Международную школу украинистики и Институт литературы НАН Украины, который за 18 лет существования подарил нашим читателям уже 13 по-настоящему стоимостных книжных изданий, особенно важных, когда на небосклоне польско-украинских отношений, до недавнего времени ясном, заметно омрачалось.