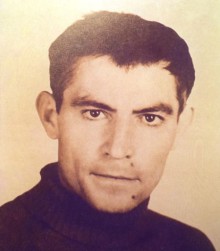5 сентября 2019 года. Утро. На входе на работу удивляет приспущенный флаг с черной траурной лентой. «Какая причина для траура?» — спрашиваю охранника. Тот не знает, но на мое полусонное «Может, еще из «Иловайска» не сняли» отвечает: «Нет, сегодня утром вывесили».
Позже за кофе нахожу объяснение. «5 сентября 1918 года российско-большевистское правительство Ленина издало Декрет о начале так называемого красного террора — документ, который развязал большевикам руки в их борьбе с «антисоветскими элементами», к которым зачли миллионы людей», читаю в статье «Дня». Вот и выяснилась причина траура. 101 год спустя. Вечер. Из между 15 книжиц по объему, но книг по содержанию, инстинктивно выбираю одну неизвестного автора (к своему стыду). Михаил Хейфец «Украинские силуэты». Глава книги, в которой автор рассказывает о своих контактах с Василем Стусом в лагерях и делает попытку дать ему характеристику (почему делает попытку, потому что сам автор на протяжении текста намекает или и прямо говорит, что не дотягивает до уровня Стуса, и чувствует, что тот ему полностью не раскрывается). К чести Михаила Рувимовича, образ поэта получился очень смачным, и благодаря разъяснениям моментов, непосредственно не касательных к Василю Семеновичу — объемным. Но это впечатление будет составлено на следующий день, когда дочитаю книгу, а сейчас понимаю, что это — знак, и что очень необходимо именно сегодня, в первый день показа, пойти на «Забороненого».
«Все, кто против террора, встаньте!» — выкрикивает Стус в поддержку Дзюбы, Черновола из его «Все, кто против диктатуры, встаньте!», а следовательно, в поддержку Светличного, которого КГБ тайно арестовало. Еще вчера (4 сентября, в день смерти Василя Стуса) думал: «А почему премьера не сегодня?» Теперь пазл неизвестности сложился, ведь террор Василь Семенович не больше ли всего осуждал и против него открыто выступал (хотя и не только против него, но и против человеческого страха поднять головы, открыто выразить свою позицию, требовать правды, а не фальши, лелеять добро, а не бороться со злом).
Правдой будет сказать, что еще не посмотрев фильм, но планируя поделиться о нем впечатлениями, я знал, что вынужден буду повторить собственные слова, выраженные как реакция на эмоциональное возмущение людей от информации, что в будущем фильме о Василе Стусе не будет сцены суда, а следовательно, будет замолчано участие в процессе Медведчука (как же говорить о Стусе без Медведчука?!). Слова звучали следующим образом: «Надеюсь, что хоть 10% тех, кто писал возмутительные посты или читал их, и в самом деле поинтересовались фигурой Василя Семеновича, и принялись читать его поэзию, «Таборовий зошит», «Листи до сына...» И использовать их хотел в несколько другом контексте (настоящий украинец — еще не знаю за что, но уже осуждаю и обвешиваю ярлыками), но вынужден собственные идеи переосмысливать, ведь, к моей большой радости, не стала сцена суда центральным событием, и именно поэзия была той сквозной нитью, которая сшивала картину (можно сказать, что не достаточно искусно сшивала, потому что действительно создается впечатление, что авторы фильма не смогли реализовать переходов между частями так искусно, чтобы это не было настолько заметно (еще бы, делаешь в соответствии с собственным виденьем, а затем тебе указывают, что нужно сделать иначе, так как «Это за наши деньги вы выгораживать палача-Медведчука собрались?», и приходится перекраивать картину. Разве это слишком отличается от советской диктатуры, когда художнику указывают, как и что ему делать?). Можно обвинять режиссера, что он бездарь, а можно понять, что и Голливуд не один год развивался, и осознать, что свое нужно любить, и быть благодарными за сделанное. Потому что даже «Круты 1918» есть за что похвалить. Одно только метко употребленное высказывание: «Если не будем знать свою историю, то придет время, когда и воевать будет некому» чего только стоит). Во всяком случае, моя любовь к поэзии Василя Семеновича дала возможность ее расслышать и признать, что стихотворения подобраны метко. Приятно было также расслышать в исполнении Дмитрия Ярошенко интонации самого Василя Стуса: та же выдержка, такие же ударения, чрезвычайная близость к оригинальному стилю чтения (движитель поиска в сети «Живой голос Василя Стуса»).
«Слишком много рядом с именем Василя Стуса информации о том, пустота души которого не заслуживает близости по душе безразмерно глубокой. Слишком много о суде, ссылке, лагерях и смерти. Слишком мало о поэзии», вынужден еще раз себя процитировать и попросить прощение за такую внимательность к своей персоне, потому что убежден, что тот обезличенный способ, в который показали на суде Медведчука, является очень метким, поскольку и сам Стус от такого адвоката отказался, показав, что тот пустое место, и суд отказался признавать, поскольку знал, что справедливости от него бессмысленно ждать. Это просто винтики системы, которая раскрылась в яркости своей трусливости дальше во время ссылки.
Мстительной и закомплексованной, замороженной рамками собственного от себя страха — такой возникает репрессивная машина Советского Союза на фоне лагерей. И выдержан в своем спокойствии и убеждениях Стус ей в противовес. Эта система не могла сломать его, как посредственность не может выиграть у величия. Она и не выиграла. Не сломала поэта, не уничтожила его стержень, не праздновала победу над его духом, но над телом. Именно за это хочется поблагодарить авторскую группу фильма: они показали Василя Стуса человеком сильным духом, человеком, который любил. А также за то, что была передана его человечность, гуманизм, нетерпимость и презрение к страху.
Когда уже выше шла речь о поэзии, то нужно отметить и то, что не понравилось. В одной сцене Стус появляется с тетрадью стихотворений, в другой армянин сокамерник выражает желание выучить стихотворения наизусть, чтобы в случае чего они хоть в голове выжили, а затем были записаны. Дальше тот же армянин Василю зачитывает один из отрывков, употребляя даже знаки препинаний, а затем его вешают, следовательно, этот канал освобождения стихотворений отрезан (простите за такую бесцеремонность к человеческой жизни). В другой сцене видим еще одного товарища Стуса, который пытается передать тетрадь через адвоката, но за шаг до успеха тетрадь отбирают, и тот попадает в руки КГБистки, которая сжигает на глазах Стуса несколько страниц (Не спойлер. Кадры сжигания присутствуют в трейлере). Может создаться впечатление, что спасти ничего из написанного в период ссылки не удалось. Как же выжил «Палімпсести»? Откуда догадки или же надежда, что «Птах душі» до сих пор где-то там — в клетке КГБ-ФСБ?
Именно время перейти к Михаилу Хейфецу — советско-ленинградскому писателю-диссиденту еврейского происхождения, которому «повезло» сидеть со Стусом, который немало помогал ему и в спасении стихотворений, и в облегчении ноши пребывания в заключении, и, в конечном итоге, оставил о нем яркие воспоминания, которые и прочитал 5—7 сентября, и на которые хочется отрефлексировать.
Это естественная реакция — хотеть акцентировать внимание на новоизведанном, на выпущенном другими из вида. Нужно ли было в фильме «Заборонений» акцентировать больше внимания на друзьях Стуса из числа россиян, когда Украина соревнуется за сохранение независимости от путинской России? А почему бы и нет? Почему бы не показать, что на уровне не политиков, а на уровне профессиональной, интеллектуальной, академической среды мы можем найти точки касания, которые смогут перерасти в что-то большее? Зачем это нам? Действительно, по-видимому, стоит смириться, что почти треть протяжности нашей границы контролирует сосед, который хочет, чтобы его боялись, хочет нашей если не смерти, то, по крайней мере, всеобъемлющего повиновения. А может, когда точно знаешь, что во входные двери войдешь — попадешь в ловушку, то нужно попробовать пойти в обход, попробовать через ученых и интеллигенцию? В конечном итоге, именно историки (научные работники) дали почву украинцам для современного осмысления своего государства, чтобы перепрограммировать отношение к себе следующих поколений (вопрос: есть ли желание «заземлиться», остается открытым). Кому же, как ни историкам, думать веками? Кто-то же должен готовить «поле лояльности», кто-то же должен сформировать у той стороны позицию, что в успехе Украины ключи к успеху России, не разливая желчь, а ведя спокойную интеллектуальную беседу. Мы должны думать о возвращении украденного, а не рубить все мосты. И пока есть надежда, что «Птах душі» где-то там еще жив, мы должны работать над тем, чтобы его вернуть, пусть сколько времени на это понадобится. А пока эффективно имеющееся время использовать, изучая творчество Василя Стуса, попробовать понять то, что ему и небезразличным друзьям по несчастью удалось сохранить. В частности, благодаря осуществленным при участии Хейфеца мероприятиям удалось сохранить 50 из 600 стихотворений.
Пора уже переходить к итогам. Нужно помнить, что это право художника — изобразить собственное произведение так, как он считает нужным, а не так, как того хотят зрители. У последних же есть свое право — дать оценку как гривней, так и словом. Хорошая новость в том, что со мной на один показ «Забороненого» пришло значительно больше людей, чем 29 августа на «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс». Правда, одновременно это и плохая новость, потому что «Иловайск» заслуживает не меньшего внимания, чем, например «Киборги». Как еще большего внимания и всестороннего разножанрового освещения заслуживает жизнь и творчество Василя Семеновича Стуса.
А у тех, кто печется освещением правды о суде над Стусом, хочется спросить: вы действительно за освещение правды или под крыльями Птицы Поднебесной стремитесь вознести того, кто его величия не достоин?
P.S. 9 сентября. День рождения Ивана Котляревского. Для него режиссера пока не нашлось.