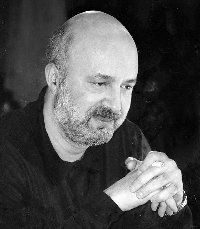Новое качество Анатолия Борсюка как ведущего ток-шоу «Двойное доказательство» на канале «1+1» заставило даже самых закоренелых скептиков признать — удивительно легко ведущий криминальной программы вошел в роль эдакого шоумена-интеллектуала. Но Анатолий Борсюк признает, что всегда был любителем новизны.
— Ваш выход «из-за кадра» в прямом эфире знаменует в вашем творчестве определенные перемены. Какие? Довольны ли вы результатом?
— Любые кардинальные изменения что-то собой знаменуют. Будет ли это новым этапом, трудно сказать. Меня, если честно, не особо интересует результат, скорее, процесс. Интересна новая обстановка, новые возможности. Я не любитель делать одно и то же. Практически никогда к старым героям и не возвращался. Один раз только — с Никой Турбиной в силу производственной необходимости. Но, главное, я хотел на время избавиться от криминальных программ. Интересно попробовать себя в новом качестве. Я столько читал о кошмарном впечатлении, которое производит прямой эфир или работа с аудиторией. Может, из-за того, что я был занят во время съемки более важными вопросам, я не ощущал, что это прямой эфир, если речь идет о телемостах или что это съемка в «Двойном доказательстве». И я очень доволен этим обстоятельством. Может, так происходит потому, что мои амбиции не находятся в сфере того, как я выгляжу, говорю ли умные вещи, поэтому мне было легко. Здесь гораздо больше возможности реализоваться самому без посредников: не через героев, которых ты снимаешь, не с помощью дикторского адаптированного текста. Посмотреть на себя со стороны, но не в смысле, как на тебе костюмчик сидит, что тоже, правда, немаловажно, а насколько ты интересен сам по себе как личность. Я хочу попробовать, буду ли интересен без особого самоконтроля. Такой способ самопознания, если хотите.
— Оправдались ожидания?
— Я вообще никому не верю в той части, где меня хвалят: почти всегда нахожу причину, почему меня этот человек, люди, организация хвалят. Я всегда вижу мотив. А к критике отношусь болезненно, но с пониманием, если человек критикует меня не для того, чтобы оскорбить или унизить. Но лучший объективный судья того, что удалось, а что нет — я сам. Я больше 30-и лет работал режиссером, и эта первая программа режиссирует меня. Это не авторские программы, к которым я привык. Такое коллективное творчество, к которому я очень неоднозначно отношусь.
— Многие, говоря о поведении В. Познера во время телемостов, подчеркивали, что интеллигентность россиян заканчивается на хуторе Михайловском. Почему это стало возможным? Как вы к этому относитесь? Ваша оценка сотрудничества этого профессионала с украинским ТВ?
— Это одна из самых болезненных тем. Я человек не тщеславный, но амбициозный и очень чувствую, когда ко мне относятся свысока. Когда меня без всяких на то оснований держат за человека второго сорта. Эти мосты были для меня своеобразным шоком. Если в первом телемосте у меня была возможность предложить моему визави Познеру некую дистанцию, то во втором, за неделю до выборов, чувство ответственности за происходящее в киевской студии заслонило чувство собственного достоинства. Моя задача была все-таки сохранить свое лицо и остаться максимум объективным по отношению ко всем четырем персонажам нашей студии. Я думал, что после первого моста мы сможем показать пример того, что можно общаться, не унижая друг друга не только на уровне меня и Познера, но и на уровне стран и народов. Вполне возможно, что господин Познер тоже не был вполне самостоятелен в выражении мыслей. Поверьте, люди, которые меня знают, прекрасно отдают себе отчет, что для меня не составило бы труда поставить его на место достаточно интеллигентно. И когда мне некоторые говорят, почему же вы не защищали Украину во время этого телемоста, я говорю — господа, в студии у нас сидели лидеры четырех крупнейших партий, это их прямые обязанности защищать Украину, реагировать на то, что с Украиной разговаривают неподобающим образом, и давать отповедь, кому они считают нужным. Моя задача как ведущего дать им эту возможность.
— В чем заключается ваша роль в дуэте с Д. Корчинским в «Двойном доказательстве» и чем вам интересно участие в этой программе?
— Александру Роднянскому пришла в голову очередная безумная идея — соединить то, что не соединяется. И это может быть самым интересным. А для меня же главная задача — остаться самим собой. Если мы с Дмитрием Александровичем настолько разные, настолько интересные, то ничего особенного для того, чтобы это подчеркнуть, предпринимать не надо. Хотя сложно вдвоем работать — это как игра в ансамбле. Нужно четко чувствовать, когда замолчать, а когда вступить, когда поддержать его мысль, а когда переброситься на что-то другое. Успеть почувствовать заминку и выручить, потому что программу мы снимаем без остановки. Нужен опыт. Но, думаю — мы наловчимся.
— В последнее время вы проявили себя как шоумен, несколько отступив от привычного амплуа режиссера-документалиста. Это временная передышка перед каким-то значительным рывком?
— Если бы через месяц-два мне предложили что-то новое, я бы не отказался. Призы мне не нужны. У меня киношных призов полным-полно. Тем более, кинонаграды настолько выше и весомее, да простят меня телевизионщики: они даются за вещи, которые можно будет смотреть и через 10 — 20 лет. А то, что мы делаем, — это сегодня на сегодня. Телевидение — это такое же искусство, как Интернет. Если будет возможность, сделаю документальный проект. Игровой вряд ли. Пусть люди помоложе этим занимаются — делают всякое мыло и сериалы. А документальное кино я бы и сделал, если бы не было требований, чтобы оно моментально принесло прибыль: на меня давит чувство ответственности за чужие деньги.
— Будущее ТВ и документального кино? В каком виде они будут (или нет) сосуществовать? Какие виды будет принимать это сотрудничество?
— У документального кино замечательное будущее. Оно — это жизнь в чистом виде. В нем автор остается как можно дальше от героя или от события. Для этого существует авторское кино. Я вообще люблю все авторское. И не люблю такого коллективизма, как у Райкина: «Кто шил костюм? — Мы». Но документальное кино надо уметь не только снимать, но и смотреть. Многое западное телевидение держится на документальном кино. Обожаемое мною ВВС или Дискавери. Но наше телевидение еще не скоро позволить себе роскошь заполнять эфир документальным кино.
— Сейчас вступает в жизнь четвертое поколение после Великой Отечественной. Уже мало свидетелей тех событий — их явно не хватает на все «уроки мужества» в школах. Как, по-вашему, сегодня следует подавать материал на эту тему, чтобы эта страница не была стерта из памяти народа и не стала всего лишь одним из вариантов темы для боевиков?
— Не уверен, что возможно сохранить это ощущение в той первозданности у четвертого поколения, что было у первого. Здесь исторический опыт показывает, что на смену одним суперважным событиям приходят другие, новые.
— Вам не кажется, что для сегодняшнего поколения война — это вообще мифология.
— Все из-за того, что часто это подается в такой обязательной, неудобоваримой форме. Есть некий догмат — ни шагу в сторону. Конечно, молодежь это отталкивает. И во многом виноваты те, кто эту войну прошел и остался, дай Бог им здоровья, и сейчас. Они не чувствуют разницу между тем, как война воспринималась 40 — 50 лет назад, и тем, как она воспринимается сейчас. Они ужасно обижаются на нынешнее поколение и считают его неблагодарным. Поэтому любые попытки нетрадиционного взгляда на историю вызывают внимание со стороны нового поколения и отторжение у стариков. Это все очень щекотливые темы. Государство настолько обделило на старости лет людей, прошедших войну, что, наверное, единственное светлое воспоминание о том, как они жили по-человечески, осталось от того времени, когда большинство из них могли проявить свои лучшие качества.
— Но как же быть с новым поколением, которое обязано что-то знать?
— Надо постараться масс-медиа быть максимально честными перед самими собой, читать книжки и не хвататься за первую попавшуюся сенсацию. Велосипед открывать не надо — не мы одни воевали. Посмотрите, как это сделано в странах, которые без всяких кавычек называют цивилизованными. Почему им удается находить баланс между прошлым, настоящим и будущим?