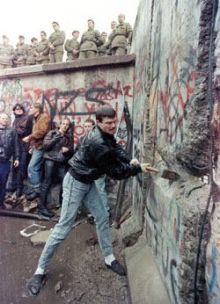Текущие политические события в Украине и за ее пределами оттесняют на задний план памятные даты, которые напоминают нам о событиях, произошедших сравнительно недавно и способствовавших формированию того политического мира, в котором мы сегодня живем. К таким событиям относится объединение Германии, пятнадцатую годовщину которого отмечали вчера. Анализируя обвинения в адрес советского руководства во главе с Михаилом Горбачевым, что оно якобы без боя «сдало» ГДР, следует сказать, что крах ГДР не был следствием рокового стечения обстоятельств. Скорее, он был запрограммирован всей послевоенной историей этого «первого социалистического государства на немецкой земле».
Экономическая неспособность обеспечить высокий уровень благосостояния, политическая система, которая целеустремленно отучала граждан от политической инициативы и самоорганизации; полная зависимость от советского военного присутствия и пресмыкательство восточногерманского руководства перед Советским Союзом, переходившее всяческие разумные границы, — все это способствовало тому, что политическая активность восточногерманских граждан в конечном итоге выплеснулась в присоединение к ФРГ.
В высших правительственных кругах большинства западных стран и в Советском Союзе ведущие политики настороженно относились к идее воссоединения двух немецких государств. Президент Франции Франсуа Миттеран и премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер стремились максимально замедлить скорость объединительного процесса. Не желая обострения из-за этого отношений в рамках НАТО, в том числе и с США, они пытались максимально использовать советское сопротивление перспективе объединения. Американская администрация Джорджа Буша-старшего ничего не имела против самого объединения, но пыталась поставить объединительный процесс под контроль. Дольше всех длилось сопротивление СССР. Поскольку в советском обществе большинство населения не было в то время психологически готово воспринять идею, выражаясь тогдашней советской терминологией, «возрождения великой Германии».
Дальнейшее нарастание кризисных явлений в ГДР заставило и советское руководство начать проработку возможных сценариев и своих подходов на случай продолжения объединительного процесса. Впервые официальная позиция советского руководства относительно урегулирования внешних аспектов немецко-немецкого объединения была изложена Эдуардом Шеварднадзе в речи в Европарламенте 19 декабря 1989 года. Он заявил о праве немецкого народа на самоопределение в политической, экономической и социальной сферах, но исключил любые претензии на границы 1938 года. Дипломатические круги стран Запада восприняли изменение в советском подходе как готовность Кремля постепенно отойти от «доктрины Брежнева» и отказаться от своей сферы влияния в Центральной Европе.
Поскольку в дальнейшем советское руководство попыталось перехватить инициативу в объединительном процессе (так называемый «План Морова»), правительство Гельмута Коля вынуждено было прибегнуть к дополнительным мерам. Чтобы предупредить эту и будущие подобные инициативы, западногерманское правительство использовало так называемую «дипломатию чековой книжки»: ФРГ предложила просубсидировать широкомасштабную закупку у нее продовольствия, выделив с этой целью 220 миллионов немецких марок. После получения материальной и финансовой помощи позиция СССР в немецком вопросе сразу стала добрее, и во время переговоров «по открытому небу» между НАТО и ОВД в Оттаве 13 февраля 1990 года были достигнуты договоренности о начале консультаций «относительно внешних аспектов восстановления немецкого единства». При этом подчеркивалось, что все вопросы, связанные с внутренними аспектами объединения, включая его сроки, должны решать только ГДР и ФРГ, а внешнеполитические проблемы будут обсуждаться представителями шести стран, а также при участии Польши при рассмотрении вопросов границ. Формула «два плюс четыре» окончательно зафиксировала тот факт, что объединение является внутренним делом обоих немецких государств, а другие заинтересованные стороны не имеют права вмешиваться во внутригерманские аспекты объединительного процесса. Это стало победой западногерманской дипломатии.
Последнее не означает, что у Советского Союза не было рычагов, чтобы повлиять на события в Центрально- Восточной Европе в выгодном для себя смысле. Советское руководство могло, например, поставить ФРГ перед выбором между объединением и членством в НАТО и разыграть таким образом ее стремление к объединению против членства в альянсе. Оно могло заставить немецких политиков серьезно воспринимать альтернативу: либо принятие советских пожеланий, либо глубокий международный кризис.
Но в таком случае СССР должен был принять принудительные меры против ГДР, что, во-первых, противоречило идеалистическим концептуальным основам политики правительства Михаила Горбачева, а во-вторых, угрожало изолировать СССР на международной арене в то время как из-за системного кризиса внутри страны он особенно нуждался в международной поддержке. Следовательно, Советский Союз не был готов к новому витку конфронтации с Западом.
ФРГ стояла перед двумя важнейшими задачами. С одной стороны, она должна была выработать четкую, реалистическую позицию относительно внешнеполитической ориентации объединенной Германии, с которой могли бы согласиться другие участники переговоров. А с другой — речь шла о том, чтобы получить согласие ослабленного, но все еще достаточно сильного СССР на быстрое изменение соотношения сил на европейском континенте не в его пользу. С этой целью ФРГ снова использовала предоставление дозированной финансовой помощи в качестве политического рычага. Немецкому руководству стало известно, что СССР нуждается в кредитах на общую сумму по крайней мере 20 миллиардов марок и надеется, кроме того, на гарантии западных правительств, которые, развеяв слухи о финансовой неплатежеспособности Советского Союза, открыли бы таким образом дорогу к прямым банковским кредитам.
Западногерманское правительство пообещало предоставить соответствующие кредиты при условии, что они станут частью общего пакета помощи в рамках решения немецкого вопроса. Всего правительство Гельмута Коля было готово предоставить до пяти миллиардов немецких марок в рамках «пакета единства». Немецкие предложения были полностью приняты советской стороной.
Удовлетворение основных советских требований создало предпосылки для дальнейшего продвижения переговорного процесса. Во время встреч 16 июля 1990 года на правительственной даче Архиз на Ставрополье Гельмут Коль и Михаил Горбачев пришли к согласию, что «принятие решения, жить ли в едином государстве, является исключительным правом немецкого народа». Следствием переговоров по формуле «два плюс четыре» стал подписанный в Москве 12 сентября 1990 года Договор об окончательном урегулировании вопроса относительно Германии, которым снимались внешнеполитические возражения против перспективы объединения двух немецких государств и восстанавливался полный суверенитет страны.
Изменить ход событий могло только вооруженное вмешательство Советского Союза, но к этому не был готов ни Михаил Горбачев, ни его окружение. Вооруженное вмешательство в ГДР повлекло бы к новой волне конфронтации Советского Союза с Западом, для которой СССР уже не имел экономических и других материальных ресурсов. При таких условиях курс Михаила Горбачова, направленный на отказ от вмешательства в «немецкий» вопрос в обмен на финансовую компенсацию со стороны ФРГ, очевидно, был «наименьшим злом», наиболее оптимальным с точки зрения руководителя огромного и безнадежно больного государства.
Роман КРИВОНОС — кандидат политических наук, ассистент кафедры страноведения Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко