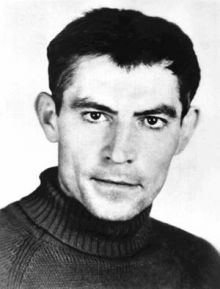Исследователи вполне справедливо отмечали философичность поэзии (да и в целом творчества) Василя Стуса. В конечном итоге, сам поэт признавался в этой философичности. Например, в небольшой статье-предисловии «Двое слов читателю», которую можно считать своеобразным поэтическим кредо писателя, именно в конце (!) специально звучит признание: «Один из наилучших друзей — Сковорода» (не учителей, авторитетов, а именно «друзей»!). То есть для него это — «интимно близкий» человек. В то же время, для украинцев Сковорода является «большим философом», даже символом философии — приблизительно так, как для древнегреческой философии Сократ. И то, что Стус зачисляет к своим «наилучшим друзьям» философа, по-своему является показательным и свидетельствует о его склонности к философским рефлексиям. Однако писатель не воспринимал существующую в то время в Советском Союзе «марксистско-ленинскую философию», а также ее адептов-служителей. Есть у него одно небольшое стихотворение (то ли просто рассуждение-запись), которое звучит так: «У нас домашня філософія / хоч і нема ковбас домашніх». То есть для него «марксистско-ленинская философия» является даже не схоластической, школьной философией, а философией «домашней» — таким себе примитивным местечковым новообразованием. Однако эту «домашность», иронизирует поэт, никоим образом не способствует появлению домашней колбасы — качественного натурального продукта.
Образ Г. Сковороди, который, вероятно, для писателя не был «домашним философом», а наоборот — «духовным оппозиционером», привлекал Стуса. Сковородиновские мотивы не раз появляются в его поэзиях, особенно в ранний период. Он собирался написать поэму «Сковорода». Однако сделал к ней лишь вступление. Есть у него стихотворения «Сковорода. Хвилеві трени» и «Голос Сковороди». Возможно, они должны были бы стать фрагментами этой поэмы. Бросается в глаза то, что Стусовский Сковорода вовсе не канонический» — и не только для интерпретаторов советских, но и для диаспорных. Хотя Стусовская интерпретация образа знакового украинского философа очень интересна и в смысле историко-философском, и в смысле «современного восприятия». С одной стороны, Стусовский Сковорода появляется как «естественный философ», своей жизнью и взглядами «вписанный» в природу, в роскошные украинские пейзажи. Например, в одной из ранних поэзий «Полтавщино! Я пізнаю твій голос...» встречаем такие слова:
«Полтавщино! Де ніжний спокій
висне
І до сих пір блука Сковорода
Йдучи на плеса нив, на тихий
шум діброви
І буєраків давню таїну».
С другой стороны, Стусовский Сковорода живет «в коротких зойках стишеного болю», переживает сомнения, даже раскаяние («Я недоріка без’язика. Досі / я людську душу жалем затруїв». Можно говорить, что Стусовский Сковорода появляется как философ-экзистенциалист, для которого сутью является томление души.
Исследователи справедливо обращают внимание на то, что поэзия и вообще творчество Стуса имеет на себе печать экзистенциализма. «Во многих определяющих моментах, — пишет Михайлина Коцюбинская, — Стусу близка философия экзистенциализма, прежде всего идея «трагического стоицизма». В экзистенциализме человек не рассматривается как объект, который имеет четкие, раз и навсегда очерченные границы. Он не просто есть, он становится человеком, он в становлении, как, в конечном итоге, и весь мир. Структура «я» воспринимается как открытая структура, а существование — как активное овладение бытием, как «построение себя». Такая система взглядов, бесспорно, близкая Стусовой концепции человека». Константин Москалец, который, ведя речь о философии поэзии В. Стуса, акцентирует внимание на орфическо-пифагорейских идеях в ней (кстати, очень интересная и достойная внимания мысль), все же отмечает и следующее: «Поэзия Василя Стуса — это, в первую очередь, философия и этика в стихотворениях, исследование сложных моральных коллизий тоталитарного общества, драматическое осмысление экзистенционного и эстетического опыта человека ХХ века, который стал объектом неслыханных ранее социальных экспериментов, избавившись от своей закорененности, а следовательно — и основополагающих критериев и ориентиров». Также этот автор считает, что Стус «в условиях полностью заблокированной и угрожаемой национальной культуры» создал себя как «мыслителя, причастного к свободным думам, которые волновали сердца его ровесников во Франкфурте и Париже». Ведя речь о «ровесниках во Франкфурте и Париже», К. Москалец имеет в виду, прежде всего, представителей «эклектической» Франкфуртской школы и французских экзистенциалистов, в частности Жана-Поля Сартра.
Действительно, если проанализировать творчество Стуса, то оно во многих моментах налагается на матрицу экзистенциализма. Можно говорить, что оно является, как раз, развитием философии экзистенциализма в жестких условиях «социалистического лагеря». В этом смысле такая поэзия пребывала на мировом уровне и могла бы быть интересной европейцам, если бы в свое время была представлена им.
Однако возникает вопрос, откуда истоки экзистенциализма Стуса. Ведь ему пришлось жить в условиях «заблокированной культуры», куда идеи этой философии почти не проникали. И все же стоит иметь в виду, что годы юности поэта пришлись на период «оттепели», когда эта «заблокированность» начала хотя бы частично разрушаться. Произведения некоторых представителей философии экзистенциализма, прежде всего левого направления (Ж.-П. Сартра, Альбера Камю), перевели на русский язык и издали в СССР. Стус, который отслеживал новинки философской литературы, должен был знать о творчестве этих авторов. Тем более, что они были не только философами, но и писателями. Однако если говорить о литературных источниках экзистенциализма Стуса, то тут на него чуть ли не наибольшее влияние оказала поэзия Рейнера Марии Рильке. Последним, как известно, Стус увлекался и переводил его произведения.
И все же, вероятно, не стоит объяснять экзистенциализм поэта лишь заграничными влияниями. Достаточно большую роль в данном случае сыграли жизненные реалии, с которыми «встретился» писатель. Это и ломка традиционной крестьянской жизни, для которой была присуща «естественность», размеренность и замедленность. Это и «дикая», во многих моментах насильственная индустриализация, которая особенно чувствовалась на Донбассе, где прошли детские и юношеские годы писателя. В конечном итоге, это и лихолетье Второй мировой войны, и тоталитарный режим в СССР, подвергшийся частичной ломке и трансформации после смерти И. Сталина. Такие жизненные реалии у глубоких и чувствительных натур, к которым принадлежал Стус, вполне могли порождать «экзистенционный пессимизм», неуверенность существования («Звіром вити, горілку пити — і не чаркою, поставцем / і добі підставити спите вірнопідданого лице...»). Эти же реалии, где хочется «звіром вити», порождали и ощущения временности и смерти.
Тема смерти является одной из центральных в творчестве Стуса. К сожалению, исследователи пытаются деликатно обойти «некрофильство» писателя. Однако именно оно является ярким проявлением экзистенциализма поэта. Оно существует вовсе не ради дешевой сенсации, что мы, в частности, встречаем у некоторых авторов-постмодернистов, а помогает осознать конечность человеческого бытия, в конечном итоге, способствует мобилизации жизненных сил. Очевидно, Стус четко осознавал эту конечность (не отсюда ли его просто фантастическая работоспособность даже в невероятно тяжелых условиях?) Он даже пророчил свою смерть. Так, находясь в Моршине на лечении, поэт пишет грустное стихотворение «Уже тоді, коли, пірнувши в ліс...», который заканчивается словами: «...це все — одне прощання понадмірне — / з Вітчизною, зі світом, з життям». Незадолго после этого Стуса арестовали. С тех пор начался завершающий этап его «дороги долі, дороги болю», который имел и сверхмерное прощание с Отчизной и, в конечном итоге, закончился смертью. Перед кончиной с поэтом происходит странное преображение, которое тонко осмыслил К. Москалец. «...он, — говоря о Стусе, писал этот автор, — стоял на границе между двумя безднами, собственно, сам он был этим пределом, пределом человечества, — и уже незадолго перед смертью, за несколько лет перед концом, Стус начинает писать удивительные письма домой. В сущности, это последние его свидетельства и произведения, тон которых настолько оглушительно тих, улыбчиво-безразличный ко всему, что узнаваемо и неузнаваемо одновременно. Он безошибочно чувствует приближение смерти и начинает готовить к этому родных. Читая это все, понимаешь, что потайное, молчаливое и незаметное дозревание формы завершилось, как завершилось и «самособойнаполнение» — этот Стус полный собой до краев».
Здесь поневоле напрашивается параллель между Стусом и Степаном Бандерой. Последний, чувствуя свою кончину, на одной из конференций ОУН, когда его избрали в очередной раз проводником организации, сказал: «Благодарю! Смертный приговор принимаю». Незадолго после этого кагебист Б. Сташинский коварно убил оуновского проводника. Бандера, как и Стус, «делали себя», не считаясь с внешними обстоятельствами и не идя с этими обстоятельствами на компромиссы. Они готовы были пройти страдания, свою «дорогу боли», твердо отстаивая свое кредо. Эти два больших украинца ХХ в., несмотря на их кажущуюся разность, по сути, были двумя великими украинскими «жизненными экзистенциалистами» — один в политике, второй — в поэзии.
Обыгрывание темы героической смерти мы встречаем в сюрреалистическом стихотворении-рассказе «Чоловік підійшов до меморіалу...» Герой среди надписей на мемориале находит свое имя среди тех, «що полягли за незалежність Вітчизни». Однако жители города «проигнорировали его». Потому что «Якщо ти живий — тим гірше для тебе: / вшановуєм тільки мертвих». В конечном итоге, герою выдают справку («Пред’явника вважати за мерця»). И на этом заканчиваются его хлопоты. Конечно, можно здесь увидеть своеобразные аллюзии с чествованием (часто достаточно лицемерным) ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя, кажется, в данном случае вопрос трактуется в более общем плане: мол, лишь героическая смерть делает человека уважаемым («вшановуємо тільки мертвих»). Однако в этом «некрофильском» чествовании есть немало фальши, «идолотворения»:
«Спочатку вони вбивали людину,
потім вбитого оживляли.
Реанімацією займалися
в косметичних кабінетах
(малярі — замість лікарів)».
Человек появляется как «кузочка мала / що творить сталий світ на збіглій хвилі». Эти слова метафорически передают одну из главных идей философии экзистенциализма: «малый человек» в потоке повседневности, среди разных обстоятельств творит свой «постоянный мир». И каким этот его мир будет и каким он будет в этом мире — зависит прежде всего от него.
Еще одним откровенно экзистенциалистским стихотворением является стихотворение «В мені уже народжується Бог...» Бог, так можно интерпретировать это стихотворение, есть трансцендентностью, выходом за пределы. В то же время это то, что живет в человеке и может в нем родиться. Рождение Бога из человека — это переход в неизведанное состояние, «інобуття» или «іножиття». Его можно воспринять и как «донищення людини», смерть человека, однако смерть, которая дает «спасение», новую жизнь. Возможно, в этом стоит искать причину «блаженності» Стуса перед его кончиной.
Бог Стуса — не совсем христианский. Даже можно сказать: совсем не христианский. Очевидно, не без влияния Фридриха Ницше, произведения которого он знал и понимал (что прекрасно показывает стихотворение «Три скелети сидять за кавою...»), Стус не принимал много моментов в христианстве. Он, как и некоторые западные интеллектуалы, в частности, экзистенциалисты атеистического направления, готов был вести речь о «смерти Бога». Правда, стусовская «смерть Бога» кажется мягче и более человечной. Это, в частности, видим в стихотворении «Націлений в небо обеліск...». Сюжетно он выглядит таким образом: сын погиб на войне, памятью о нем является обелиск и «зламаний іржавий кріс». Здесь можно увидеть аллюзию с «тужливою пам’яттю» о погибших в Великой Отечественной войне. В действительности образ матери, страдающей из-за смерти сына, намного шире. Это образ всех матерей, сыновья которых погибли в круговерти разных военных лихолетий. Поразительно-шокирующими являются последние слова стихотворения:
«І висхла вижовкла її рука
ще образи обмацує нерадо.
Бо де там син? Де бог? Нема обох.
І смерть обсіла пустку,
наче льох».
Однако «смерть Бога» у Стуса, как и шевченковское в «Заповіті» («Я не знаю Бога...»), не является безверием (безрелигиозностью). Скорее, это поиск другой (более адекватной?), чем христианство, религии. Здесь Стус поступает так же, как и западные интеллектуалы, его ровесники. Он начинает искать веру на Востоке, в частности, в дзен-буддизме. Конечно, в этом можно увидеть западные влияния. Однако, вероятно, дело не только в этом. Украинская философская мысль была и является пограничной между европейской и индийской традицией. Здесь можно вспомнить хотя бы «символического» Сковороду, на которого сходит нежданно просветление в саду Ахтырского монастыря, и Будду, который стал просветленным в Банареском саду.
Как и у «отца экзистенциализма» С. Кьеркегора, в поэзии Стуса часто звучат мотивы страха и отчаяния, которые являются своеобразным ответом на бессмысленное бытие мира. В этой поэзии, как и у известного датского философа, отсутствуют попытки опереться на внешний мир. При этом акцент делается на идее временности человеческого бытия, затерянности человека в мире.
Еще один мотив, который сближает Стуса с философией экзистенциализма, его понимание историчности. Стусовская «картина истории» с принятием преемственности, героической позицией является типично экзистенциалистской. С большой силой эти все моменты озвучены в его стихотворении «За літописом Самовидця»:
«Украдене сонце зизить схарапудженим оком,
мов кінь навіжений, що чує під серцем ножа.
За хмарою хмари. За димом пожарищ — високо
зоріє на пустку усмерть сполотніле божа.
Стенаються в герці скажені сини України,
той з ордами ходить, а той накликає Москву.
Заллялися кров’ю всі очі пророчі.
З руїни
Вже мати не встане — розкинула руки в рову.
Найшли, налетіли, зом’яли, спалили,
Побрали з собою весь тонкоголосий ясир.
Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали,
бо так не карав нас і лях-бусурмен- бузувір.
І Тясмину тісно од трупу
козацького й крові,
і Буг почорнілий загачено тілом людським,
бодай ви пропали, синочки, були б ви здорові,
у пеклі запеклім, у райському раї страшнім.
Паси з вас наріжуть, натягнуть
на гузна вам палі
і крові наточать — упийтесь
кривавим вином.
А де ж Україна? Все далі, все далі,
все далі.
Наш дуб предковічний убрався
сухим порохном»...
При этом «картина украинской истории» Стуса принципиально отличается как от советской с ее апологией «народных масс», так и националистической, где акцент делался на «героической борьбе против иностранных угнетателей». Стусовская «картина истории» — картина трагическая. В ней показана абсурдность кровопролития (даже за «высокую идею») и откровенно говорится об эгоизме украинских вождей, что в конечном итоге ведет к гибели Украины. Несмотря на такую откровенную трагичность, «картина украинской истории» Стуса адекватнее и даже человечнее, чем те «картины истории», которые встречаем у украинских историков из разных лагерей.
В целом в лице Стуса находим потенциального философа-экзистенциалиста. Возможно, в других, более цивилизованных обстоятельствах он мог себя реализовать как профессиональный философ и писатель (в данном случае можно провести параллели с Ж.-П. Сартром или А. Камю). Однако обстоятельства жизни, тоталитарная советская действительность, заблокированность и сознательная деинтеллектуализация украинской культуры не дали это ему сделать. В обстоятельствах, в которых оказался Стус, лучше всего реализовать свою философию он мог в поэтическом творчестве.