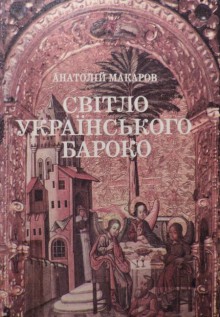Анатолий Макаров был одним из самых ярких эрудитов, которых мне посчастливилось знать. Беседую с ним (то в его рабочем кабинете в издательстве «Радянський письменник», где он долгое время работал, то в библиотеке им. В.Вернадского, то просто по телефону), я каждый раз попадал в атмосферу свободных интеллектуальных путешествий по великой Стране Культуры. В ней Анатолий Николаевич чувствовал себя как полноправный гражданин, поскольку много знал, умел ценить талант и красоту, прекрасно видел связи между разными, отдаленными временами , явлениями. Он был классическим книжником («тугим библиофагом», говоря словами Мыколы Зерова), гурманом, которому нравится оставаться наедине с изысканным художественным словом, картиной, архитектурным творением, старинным фолиантом, каким-то неожиданным фольклорным чудом. Кому как, а мне Анатолий Макаров представляется рядом с призабытым теперь у нас культурологом 1880—1900-х гг. Василием Горленко, с киевскими «неоклассиками» 1920-х — и так аж до Дмитрия Горбачева и Сергея Билоконя включительно.
Родом Макаров из Дальнего Востока, а вот высшее образование он, сын военного, получил в Киеве. В архиве Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины можно полистать его 100-страничную дипломную работу о поэзии Николая Заболоцкого, защищенную в Киевском университете им. Т.Шевченко в 1962 году. Да, Анатолий Макаров филолог-руссист. Однако сразу после получения диплома ему пришлось «переквалифицироваться» на украиниста. Впрочем, слово «переквалифицироваться» не совсем точное, ведь автор дипломной о Заболоцком уже давно был своим человеком и в среде украинских шестидесятников. Следует перечесть интереснейшие воспоминания Ирины Жиленко «Homo feriens», чтобы в этом убедиться.
Просто со студенческой скамьи Макаров пошел работать в редакцию популярной тогда «Літературної України», потом — в издательство «Радянський письменник», где я и застал его в 1987 году в статусе одного из редакторов. Тогда как раз готовилась к изданию моя литературно-критическая книга о молодой украинской прозе, и Анатолий Николаевич ее редактировал. Был он активным литературным критиком, автором книг «Розмаїття тенденцій» (1969), «Барви слова» (1970, в соавторстве) и «Світ образу» (1977). Его статьи часто появлялись в периодических изданиях, поэтому, вспоминаю, речь о них заходила и на занятиях во времена моей учебы в Одесском государственном университете им. И.Мечникова. Профессор Григорий Вязовский однажды (а было это в 1974 г.) объяснял нам, кто такой критик-эстет, — и вспомнил при этом именно Макарова. Вспомнил вполне благожелательно, — как автора, который умеет анализировать произведение «в единстве содержания и формы». Из этого следовало, что Макарову-критику чужд чрезмерный социологизм и самодостаточная публицистичность.
Уже теперь, перечитав сборник «Розмаїття тенденцій», я получил немало удовольствия: так проникновенно, со знанием дела пишет в ней Анатолий Макаров о поэзии Мыколы Бажана, Василя Мысыка, Ивана Драча, Василя Симоненко, Василя Голобородько. Без его наблюдений, думаю, теперь не обойдется историк украинской литературы 1960-х годов, особенно тот, который будет писать о Драче. Макаров был критиком — глашатаем своего поколения, однако его любовь к дерзкой, склонной к экспериментам молодой поэзии была строгой. Об этом, в частности, свидетельствовала статья о сборнике Ивана Драча «Балади буднів» (1967): в ней сказано немало острых слов о том новом, что появилось в творчестве этого поэта после выхода его резонансного «Соняшника» (1962).
Ирония вообще была ему присуща — тонкая, порой весьма ощутимая.
Он охотно поддерживал сложную поэзию, то есть ту, которая ориентировалась на воссоздание противоречивости внутреннего мира человека и на неординарный образный язык.
А еще заметно, что Макаров не желал быть критиком-»импрессионистом», который в своих суждениях основывается исключительно на субъективных впечатлениях. Он искал научные критерии оценивания поэзии, охотно заходил в область философских и психологических исследований. В заключительной части книги критик вдруг заговорил о роли подсознания в процессе создания образа. И это был симптоматический момент: Макарова поразил полутабуированный тогда трактат Ивана Франко «Із секретів поетичної творчості», — и он увлекся возможностями рецептивной поэтики, которая открывала новые возможности для познания поэзии через изучение ее восприятия читателем.
Увлечение не было быстротечным: в 1990 г., развивая идеи Франко, Анатолий Макаров представил читателям книгу «П’ять этюдів. Підсвідомість і мистецтво», в которой помещены его «очерки по психологии творчества». По сути, это была не так оперативная литературная критика, как настоящее научное исследование. Значительная его часть посвящена роли сновидений в творческой психологии Тараса Шевченко и Леси Украинки. А в заключительном разделе речь шла уже о «загадочной живописи Рене Магрита», то есть о художественном сюрреализме!
И в таких, казалось бы, головокружительных переходах не было какого-то авторского произвола: Анатолия Макарова, вооруженного современными трудами психологов, вела мысль о «внелогеской мудрости искусства», о больших возможностях подсознания, сонной фантазии в процессе творчества, — поэта или художника, не важно.
Вот этими своими эвристическими неожиданностями и интересен Макаров. Прочитав его сборник «Розмаїття тенденцій», Василий Стус недаром же отреагировал довольно эмоционально: книги критиков бывают интереснее сборников поэтов, о которых эта критика пишет.
Бывают, хотя и редко.
В исследовании «Світ образу» А.Макарова есть разделы о живописи Екатерины Билокур и Марии Примаченко. И опять все было неожиданно: Мария Примаченко предстала здесь как соавтор Михаила Стельмаха; автора интересовало родство образов визуальных и словесных.
А на рубеже 1980—1990-х гг. Макаров оставил литературную критику и занялся «стариной». В 1994 г. появился его фундаментальный труд «Світ українського бароко» — вдохновенное слово исследователя об эпохе барокко в его украинской версии. Для того, чтобы интерпретировать сложную «душу» этого явления, Анатолию Николаевичу понадобилось глубокое знание литературы, живописи, архитектуры, эстетики, философии, истории. О барокко он написал с любовью, полемической страстью и стилистическим блеском, — возможно, именно поэтому его «Світло...» пользуется такой популярностью среди в целом капризной студенческой братии?
Перед читателем книги А.Макарова украинская культура ХVII—ХVIII веков предстает со всей своей «неотвязной меланхолией» и своим «трагически окрашенным мировосприятием». Вызваны они были страхом перед непознаваемой реальностью и осознанием противоречивости самого человека, причудливым сочетанием в нем божественного и дьявольского начал, которые находятся в вечной борьбе.
Это — один из ключевых тезисов в монографии «Світ українського барокко», — книги, которая «возвращала» нам, казалось бы, утраченое, замаскированное время, которое на самом деле оказалось ярким и увлекательным.
Я бы вообще назвал Анатолия Макарова реставратором утраченого времени. Особенно после того, как он издал серию книг о киевской старине.
Вспоминаю Анатолия Николаевича в интерьере читального зала библиотеки им. В.Вернадского, где он любил листать раритетные издания. Особенно хвалил газету «Киевские епархиальные ведомости»: вот где, говорил, увлекаютельное чтиво; даже некрологи умели тогда писали по-человечески, интересно, так, что вырисовывались история человека, его характер. А еще показал мне маленький цифровой фотоаппаратик: вот, мол, мой помощник.
Тот фотоаппаратик и в самом деле очень помог Макарову в его работе над киевоведческими трудами. Сначала это были «Малая энциклопедия киевской старины» (2002) и «Киевская старина в лицах. ХІХ век» (2005), а потом... потом он успел подготовить к изданию целый семитомник, который теперь выходит под общим названием «Мир киевской старины». В нем Макаров соревнуется с забвением — и побеждает. В его рассказах оживает Киев, которого давно нет, — но тот Киев был, был! Оживают люди, обычаи, колорит повседневности, тысячи подробностей жизни, бытия, культуры...
Конечно, это подвижничество. Кому-то оно может показаться чудачеством, однако мы же знаем, каким скучным был бы мир, если бы в нем не было Дон-Кихотив.
И вот вдруг — архивный документ, который открывает новую черту в образе этого «схимника», казалось бы, полностью погруженного в чтение книг и в легенды старины. В феврале 1981 г. Анатолий Макаров, оказывается, обращался с письмом к Борису Олийныку (который тогда возглавлял партком Союза писателей), чтобы помочь поэту Николаю Воробьеву выйти из зоны вынужденного творческого молчания (невозможности печататься). «Его, уже хорошо известного не только в литературных кругах поэта, — писал А.Макаров, — не печатают ДЕСЯТЬ лет. Ряд несправедливостей, которые испытали в прошлом десятилетии некоторые талантливые литераторы, уже исправлены руководством СПУ. Но относительно Н.Воробьева этого не скажешь.
Летом поэт подал в «Літературну Україну» подборку поэзии, надеясь восстановить свои контакты с печатными органами СПУ. Но этого, к сожалению, не произошло. Редакция не отклонила его произведения, проявила должное внимание к автору, однако сама возможность печататься остается до сих пор проблематичной. (.../ Его /Н.Воробйова. — В.П.) слово близко читателю своими глубокими народными корнями. Его поэзии отличаются оптимистичным мировоззрением, неподдельной добротой, душевностью, верой в возможности творческого общения мастера с широкими массами читателей. Его профессиональный уровень до сих пор также не вызывал ни у кого никаких сомнений.
Уже из этого видно, что вокруг Н.Воробьева сложилась ситуация, которая напоминает то, что происходило в свое время с Ксенией Некрасовой, «тихую» и хорошую поэзию которой признали только после ее смерти. Не рискуем ли мы сегодня повторить ту же ошибку?! Отталкивая талантливого лирика, мы обедняем нашу литературу. Кому это нужно?»
А «нужно» все это было КГБ, «под колпаком» которого находился Николай Воробьев. В 1967 г. его обвинили в «идеологической диверсии» — попытке несанкционированной публикации своих произведений на Западе; в 1968 г. отчислили из университета, ну ...а дальше началось то, что вообще было характерным для советского «царства несвободы». Вытеснение из творческой жизни; преследование; шантаж.
Через многие годы (в 2005-м) Николай Воробьев станет лауреатом Шевченковской премии, — но я же сейчас вспоминаю мрачный 1981-й. Не знаю, как реагировал на письмо Макарова Борис Олийнык: новый поэтический сборник Воробьева («Пригадай на дорогу мені») смог выйти в свет аж в 1985-м, когда началась горбачевская «перестройка».
Вот такое «схимничество» от Анатолия Макарова. В книге «Світло українського бароко» есть следующие слова: «Морально больные эпохи создают себе просто-таки фантастические образы «идеологических» врагов, в которых персонифицируется чувство собственной неполноценности». Читается это словно комментарий к истории с Воробьевым, не так ли? Только ведь Макаров прекрасно знал, что подобные истории повторялись в разные времена много раз, и еще не раз будут повторяться там, где исчезает свобода. Сам он был внутренне свободным человеком, и в этом ему во многом помогали — и Лазарь Баранович, и Сковорода, и Аристотель, и Камю, и Лина Костенко, и Вольтер, и Василь Симоненко. Все, с кем он «общался», реставрируя утраченное время.