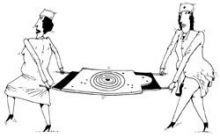Мужчинам (например, мне) интересно писать о женщинах — по причинам, которые можно считать очевидными. Но это ловушка: флюиды, которыми женщины влияют на мужское восприятие, из-за своей нематериальности ускользают из словесных формулировок и не ложатся на бумагу так. Когда Толстой писал, что влюбленная Анна Каренина чувствовала, как в темноте блестят ее глаза, то это чувствовал он, а не Анна. Писательницы-женщины воспринимают себя более реалистично (я даже сказал бы — более физиологично), поэтому трудно вспомнить незаурядный женский образ, созданный писательницей.
Эту преамбулу я написал, чтобы вы, уважаемые читатели, поверили, что дальше речь пойдет о женщине, которую словами «привлекательная», «симпатичная» или «женственная» описать нельзя. Была она не красивой, а особенной — что даже я, будучи тогда десяти лет от роду, чувствовал и собственным естеством, и наблюдая за поведением мужчин. Они, эти мужчины, были бинтованные-перебинтованные, некоторые без рук или ног, один без глаз, и все вместе лежали в большой палате военного госпиталя. Кто-то умирал, кого- то комиссовали из-за увечья, кто-то возвращался на фронт. Но это не мешало им остро интересоваться тем, что немцы называют Ewige weibliches — Вечное женственное. А она была Зарема, палатная медсестра. В контуре скул и разрезе глаз чуть-чуть просматривалось что-то татарское; возможно, именно это прибавляло ей шарма; волосы были рыжие (бледного, ненасыщенного цвета), а на щеках и носу россыпь веснушек — утром она маскировала их пудрой, а в течение дня об этом забывала. Было ей за тридцать (практически все в палате были младше); обладала красиво очерченными женскими формами, которые, так сказать, не скрывала.
Мужчины без женщин — острая проблема психологического и даже психиатрического тембра. Когда кто-то говорит, что «воздержание» не вредит здоровью, то это правильно в том смысле, что от этого не умирают. Но — и не живут. Бордели, которые содержались на деньги немецкой армии, были не проявлением разврата или благочинности, а средством повышения боеспособности вермахта и уменьшения заболеваемости венерическими болезнями. Впрочем, этой специфической темы я коснулся только для того, чтобы читатели догадались, сколько и каких разговоров велось в палатах о Зареме (понятно, в ее отсутствие). Бывали попытки ее ущипнуть известно за какие места, но за этим следовала воспитательная беседа приблизительно такого звучания:
— Вот пойдешь на фронт, и тебе оторвет эту руку. Хочешь? — А если речь шла о тех, кто из-за костылей или пустого рукава на фронт уже не пойдет, текст был другим. — Ой, дурачок, захотел в карцер? Замполита позвать?
Замполит был здоровенного роста капитан с черной повязкой на одном глазу и лицом, синим от нашпигованного в кожу пороха. Очевидно, как-то добился, чтобы его, инвалида, не комиссовали из армии. Говорил басом (но матерился шепотом, чтобы не слышали сестры и врачи). Все его уважали и боялись, хотя в конечном счете ничего такого раненому сделать не мог. Кроме одного: перевести «в карцер» — то есть в ту комнату, где ночевал сам. Целый день капитан туда-сюда сновал по госпиталю, хозяйничал везде, кроме операционной и перевязочной. В его комнате стояла кровать Дядьваси, глухого и заикающегося после контузии; его уже не лечили, но и не выписывали из госпиталя, так как ему некуда было ехать, зато в хлипком сарайчике рядом с помещением госпиталя два-три раза в неделю строгал гробы для тех, кто отслужил навсегда. В «карцере» было скучно, и этого боялись. Для экспозиции остается добавить, что сам я впервые попал в госпиталь с ученическим концертиком, а уж впоследствии по собственной инициативе забегал после школы.
— Иди сюда, — сказала мне как-то Зарема и завела в свою комнату. Говорила со мной, переодеваясь из халата в гимнастерку и юбку; не стеснялась, ведь я был маленький (хотя — как бы это сказать точнее — не такой уже маленький, как ей казалось). — Федя Два-черта — знаешь? — плохое письмо получил. Задумался сильно.
Говорила с чуть заметным акцентом, который — бывают такие женщины — тоже ее украшал.
— А для чего же ему прочитали? Этого, конечно, не следовало делать.
Русским я овладел не с голоса, а по книжкам, и какое- то время говорил очень «литературно». У Феди не было глаз и наполовину усохла нога, которую ему могли ампутировать, но еще надеялись спасти.
— А кто знал, что там написано? Жена его, сука, оставила свекрови ребенка и удрала. Не хочет слепого. Ты ему почитай, ладно?
— Что читать ему?
— Что хочешь, будет правильно. Читай ему на мозги.
Зарема припудрила веснушки, заглядывая в квадратик зеркальца. Пудру — это я знал — она делала из смеси зубного порошка и растертых таблеток американского красного стрептоцида. И это был грех, потому что стрептоцид прекрасно уничтожал непривычных к нему в то время микробов; его нужно было украсть из госпитальных запасов. Впрочем, американцы не скупились, так что вскоре растворенным стрептоцидом начали еще и подрисовывать фото и почтовые открытки.
— Могу «Библиотеку красноармейца».
Зарема села на одну из двух кроватей (ее соседка, очевидно, была на дежурстве), посадила меня рядом и спросила:
— В палате что говорят? Про меня — что?
— Ничего не говорят… Не знаю.
Она утвердительно кивнула головой:
— Правильно. Маленький, а врешь.
Не думаю, что ее интересовали те ежедневные разговоры «о бабах», анекдотах и срамных стишках. Была, правда, еще одна вещь, которой я не понимал, но об этом разговор впереди. Из-под подушки Зарема вынула плитку трофейного шоколада.
— На, отнеси Феде. Пускай думает — от тебя. Завтра приходи с книжками.
Федя сидел около открытого окна и слушал (или не слушал) птичий гомон. Было видно, как Дядьвася вынес из сарайчика и «на попа» поставил у стены новенький гроб. Но в нашей палате все были живы.
— У меня шоколад есть… Хотите?
Вообще Федя был говорливый; раз от разу цеплял к словам те «Два черта», за которые и получил свое прозвище, но на этот раз молча протянул руку, пожевал, проглотил и не сразу отозвался:
— Немецкий, с помадкой.
— Берите еще… пожалуйста.
— Не… Зарема прислала?
— Этот шоколад принадлежит мне.
— У нее тоже немецкий есть. Какой сегодня день?
Ковальчук, большой и красивый парень с на удивление правильным украинским языком, подошел и положил в руку Феди трофейную зажигалку.
— Тримай, брате. Візьмеш, прикуриш, мене згадаєш. Єсть?
Федя улыбнулся, крутнул колесико и, чтобы убедиться, горит ли, подержал над огнем руку.
— Слышь, Ковальчук, тебя в отпуск… или сразу?
— Сразу, Фєдя, на лігво фашистського звіра. Кілька днів і — гайда.
— Гайда — это что?
— Вперед, на запад!
— Айда, значит… А Зарема?
— Что — Зарема?
— Ничего, — сказал Федя. — Спасибо за подарок.
Несколько дней я читал ему анекдоты и стихотворения из книжечек «Библиотеки красноармейца». Кажется, слушал или, может, спал, но ни разу не отозвался на услышанное, не улыбнулся на шутки о Гитлере и трусе Шмольтке. А потом заплакал, выслушав «Дары волхвов», где рассказывалось о бедной семье: он продал часы, чтобы купить ей роскошный гребешок, а она продала косу, чтобы купить цепочку для его часов. Вечером того дня Федя повесился в туалете. Теперь знаю, что в этом есть и моя вина: не о тех, кто любит, нужно было читать ему, искалеченному и брошенному. Теперь это знаю, тогда — не знал. В палате молчали. Дядьвася строгал доски, Зарема и палатная нянька ходили заплаканные: замполит кричал на них за то, что не уберегли. Ковальчук и еще кто-то ходили к главному врачу и просили, чтобы о Феде записали «умер от ран», потому что иначе его родня не получит никакой помощи. Врач обещал подумать; сговорившись с замполитом, могли это сделать, но чем закончилось — не знаю. Я понес Зареме тот шоколад, который Федя не доел (немного себе я таки отломал, но почти полплитки осталось). Зарема меня поцеловала и вытолкнула за двери вместе с шоколадом.
Несколько дней я не ходил в госпиталь, а когда пришел (было воскресенье), все уже так-сяк устоялось. На кровати, которую занимал Федя, лежал новенький. Ему после операции было больно, и когда заканчивалась действие морфия, он скрежетал зубами или пел что-то странное, чего я никогда не слышал: «Ваша подруга Рита очень на вас сердита. Шлет вам подарок, привет примите. Деньжонок, наверно, хватит. Джон Ли за все заплатит, Джон Ли всегда такой».
— Заткнись, Джон Ли! — советовал ему кто-то из палатных, все через это прошли и не имели склонности к излишним сантиментам. Приходила Зарема со шприцем, и бедняга быстро утихал. Сколько таких осталось наркоманами, знает один Бог.
— Йди за мною, хлопче, — как-то сказал Ковальчук и вывел меня в коридор; он уже был одет по форме, потому что его выписывали, и ждал, пока оформят бумаги. — Тут базар далеко?
— Не далеко, — сказал я, разглядывая его медали.
— А що там є?
— Грибы, — сказал я; недавно насобирал ведро маслят и продал за 30 рублей — была такая купюра с Лениным.
— Грибів не треба.
— Ковальчук, скоро обед! — крикнули ему. — Тебе сегодня три каши, сам понимаешь…
В палате засмеялись, а Ковальчук порозовел.
— А пудра є? — спросил он. — Або щось таке… га?
— Какое — такое?
— Та я й сам не знаю.
— Казенная махорка есть. По шестьдесят рублей за стакан. А самосад по сорок.
— Малий ти ще, — вздохнул Ковальчук. — Веди на той базар. Самоволка, та хай! Почекай-но…
Он зашел в палату, что-то взял из рюкзака, и мы отправились.
На базаре по меркам того времени было людно. Ковальчук быстро (я едва поспевал за ним) прошел овощи, не заглянул к козам и поросятам, пропустил молоко и сделал стойку около толстой, как копна, цыганки, которая продавала румяна в аптечных баночках.
— Пудра є?
— Эт! — сказала цыганка. — Зачем тебе такое барахло? Бери румяна, девка будет, как калина. Дешево отдам! Говорю, так слушай. Я старая сваха.
Но Ковальчук румяна забраковал. В конце концов у какой-то застенчивой женщины, которая, похоже, впервые вышла на базар, мы выменяли на новенькие трикотажные кальсоны бутылочку одеколона «Кармен» с брюнеткой на этикетке.
— Для Заремы бутылочка? — запросил я. — Кальсон, наверно, хватит, Джон Ли за все заплатит…
— Тебе мама давно била? — поинтересовался Ковальчук; было видно, что своим вопросом я его застал врасплох.
Мы попрощались за руку там, где ему нужно было повернуть к госпиталю, а мне прямо — по шоссе, вдоль аэродрома, на хутор Смоковка, нынешний пригород Житомира. Я вспомнил намеки в палатных разговорах и знал, что «Вперед, на запад» Ковальчук двинется не раньше завтрашнего утра, потому что будет спать с Заремой в ее комнатке. Такой чести у сестрички удостаивались только те, кто не возвращался домой из-за инвалидности и не получал отпуск, а из госпиталя возвращался на фронт. Слишком целомудренных прошу дальше не читать. На жаргоне тех лет это называлось (и, понятно, касалось определенного явления, а не одной медсестры) «честная давалка». Иногда я думаю, что таким способом Зарема могла бы спасти слепого Федю.
В госпиталь я больше не ходил; приревновал Зарему к Красной Армии. Через много лет вот что прочитал у Константина Симонова: «На час запомнив имена // (Здесь память долгой не бывает), // Мужчины говорят «Война…» // И наспех женщин обнимают. // Спасибо той, что так легко // Не требуя, чтоб звали милой, // Другую, ту, что далеко, // Им торопливо заменила. // А им, которым в бой пора, // И до любви дожить едва ли, // Все легче помнить, что вчера // Хоть чьи-то руки обнимали». Это стихотворение было опубликовано в 1942 году. Немного в то время было поэтов, которые дерзнули бы так писать о войне (и которым позволяли публиковать такие стихотворения).