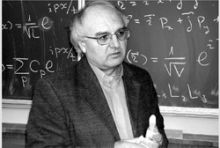Не было такого в мои университетские времена. Я ректора университета и в лицо хорошо не знала. А здесь можно каждую вторую среду месяца прийти в Зеркальный зал Львовского национального университета имени Ивана Франко и задать ректору любые вопросы. Даже провокационные, даже (ужас!) несколько грубые. Никто не подскочит на кресле от неожиданного нахальства, никто тебя за руку не будет выводить из зала, и фамилии не спросят... Отвечая, профессор Иван Вакарчук никогда даже голос не повышает. Однако всегда найдет, что ответить студенту, которому либо больно, либо не терпится, либо действительно пришло в голову что-то значительное, о чем нужно посоветоваться с человеком, имеющим за плечами колоссальный опыт. Не без чувства зависти к сегодняшнему студенчеству решила сделать нечто наподобие дискуссии в Зеркальном зале для читателей «Дня». Поговорить обо всем без обиняков (однако вокруг университетской жизни) с ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, профессором И.А. Вакарчуком.
— Иван Александрович, довольно распространенное мнение о том, что наши высшие учебные заведения дают молодым людям практически универсальное и высокого уровня образование, многие обосновывают утверждением, что наших выпускников с радостью берут на работу в странах с развитой экономикой. (Немцы даже грин- кард для молодых компьютерщиков выдумали). Но есть немало людей, которые с грустью утверждают, что на самом деле живем мы в одну из наименее просвещенных эпох, и случилось это из-за тотальной капитуляции образования перед экономическими нуждами. Практически все наше образование ориентировано на решение двух задач: обеспечить благосостояние государственное и средства к существованию отдельному человеку. Хотя в другие времена, даже в Древней Греции и Риме, не говоря уже об эпохе Ренессанса, образование открывало перед молодыми людьми науку понимания высокого смысла жизни и ответственности перед обществом. Забыли ли мы об этом требовании?
— Возлагать всю вину за общий спад духовности на плечи образования, согласитесь, несправедливо. Это вопрос глобального значения: нужны ли нашему государству умные, независимые личности, люди с развитым чувством долга и чести, которые откровенно спрашивают себя — для чего я пришел в этот мир? Огромное влияние на образование во все времена имело государство: оно заказывает количество специалистов, их качество и в значительной степени определяет их духовные приоритеты. Сегодня, к сожалению, проблемы качественных изменений в образовании не волнуют политиков и администраторов — у них просто не это сейчас в голове.
— И вправду, на пороге выборы, а мы о каком-то высшем смысле бытия говорим... Кстати, и ваших студентов активно будут вовлекать в этот процесс.
— Втягивать студентов в политические баталии аморально. Это, в конце концов, и предусмотрено Законом Украины «Об образовании». К тому же политические процессы сегодня таковы, что молодому человеку очень часто сложно определить, где истина, а где игра на публику… Как граждане государства, мы не можем быть вне политических процессов, однако это все должно иметь свое место и назначение.
— Но ведь завтра придут и скажут, что вы не патриот…
— Патриот — это не тот, кто кричит. Настоящий патриотизм — это добрый труд для своего народа, а не призывы. Это основательный анализ и мудрые выводы. Анализ свидетельствует, что ситуация в высшем образовании сложная и что локальные процессы усложняет фактор глобализации нашей жизни. Хотим мы того или нет, а она происходит. Да, глобализация расшатывает национальную идентичность, а значит, нивелирует основы духовного бытия человека. Возможно, Болонский процесс, идущий сейчас в Европе, связанный с реорганизацией образования в европейских университетах, призван внести коррективы в образование Украины. Украина также подписала известную Лиссабонскую конвенцию. Часть реформ инициирует министерство, часть — университеты. Организовали и мы во Львове несколько конференций, в частности по реформе обучения в аспирантуре, по определению необходимого уровня автономии высших учебных заведений. Хотелось бы четко выяснить, насколько университет в сегодняшних реалиях способен принимать самостоятельные решения, на каких уровнях, каковы рамки университетской автономии и что такое собственно автономия?
— То есть, если образование пробуксовывает в общегосударственном масштабе, то будем возрождать оазисы знаний каждый автономно?
— Это упрощенный подход. Дело в другом — исторический опыт показывает, и наконец нужно это осознать, что развивается только то общество, которое заботится о развитии науки, об образовательных процессах для широкого круга граждан, отстаивает престиж ученого в высоком понимании этого слова: когда ученый поднимается над мелочным и дышит воздухом общественно значимых истин. И именно такой общий общественный прогресс мог бы стать той консолидирующей идеей, которая так необходима нам сегодня. Без этого не будет ни высоких технологий, ни высокого уровня жизни. И для этого нужна демократизация университетской жизни в частности.
— Иван Александрович, несколько дней назад я беседовала в учительском кругу. Это были люди среднего возраста, и они со страхом говорили, что пройдет несколько лет, они уйдут на пенсию и для школ будет сложно найти хорошего учителя, который работает не за страх, а за совесть; способного посвятить себя делу, чтобы не только деньги имели для него значение. Даже люди, которые желают лучшего своему ребенку, озабочены не развитием его способностей, не поиском призвания, а советуют поступать на тот факультет, который даст немалый заработок…
— Не буду спорить. Мы многое потеряли и многое будем наверстывать. Однако и ныть по этому поводу не стоит, потому что я вижу — многие вещи находятся в состоянии переосмысления. Нужно работать дальше. Отбирать в университеты молодежь, для которой интеллектуальное развитие приносит удовольствие. Таких детей много, и о них нужно заботиться. Одна из миссий университета, как и церкви, — воспитывать в человеке достоинство, гражданскую позицию, уважение к своему народу и другим народам. И что очень важно — необходимо учить не приспосабливаться (этому общество научит автоматически), а тому, чего не стоит делать. Конформизм, который уже был серьезным жизненным рычагом, должен уйти в прошлое, он только ломает человека, а не дает ему развиваться.
— Лично вы живете с такой позицией, но легко ли с ней? Как часто вы наживали врагов своими новаторскими шагами? Например, когда первым в Украине вводили тестирование. Ведь это была серьезная преграда на пути взяточничества…
— Когда в 1990 году я дал согласие баллотироваться на должность ректора университета, то в моей программе были записаны такие слова: либерализация вступления. Речь шла именно о введении тестов. До этого я уже работал в системе образования, имел опыт работы в Верховной Раде, небольшой, но все-таки основательный, был знаком с документами, европейскими и мировыми, по образованию, и не раз слышал от своих коллег-физиков на конференциях, что американская система тестирования довольно интересна. Все это и навело на мысль, что нужно вводить тесты у нас. Цель была такова — начать процесс формирования общественного сознания, приучать к тестам как к самой простой форме прозрачности. Теперь министерство, подписав соглашение с фондом «Відродження», уже год проводит эксперимент с центрами тестирования в нескольких городах Украины (Киев, Одесса, Харьков, Львов). А тогда мы были первыми. Хотелось свести до минимума субъективный фактор в процессе экзаменов. Ребенок один наедине с тестами, нет преподавателя, который бы в ту или другую сторону его склонял, нет психологического давления. Это значит, что через 10—15 минут волнения абитуриент сможет взять себя в руки. Насколько это, конечно, вообще возможно на экзаменах.
— Но за компьютером тоже человек сидит…
— Там так все упрощено и закодировано! Каждый ответ маркируется таким одноразовым «чертиком», который больше не повторяется, каждый раз другая конфигурация на талоне. Интересно, что сначала многие родители подавали на апелляцию. Им казалось, что таким образом можно дополнительные баллы получить, это с одной стороны. С другой, — мы сами были заинтересованы, чтобы люди убедились: работаем открыто. А удовлетворяли мы из сотен апелляций две-три, иногда — четыре, если были для этого основания.
— Но стали ли ваши студенты от этого лучше?
— Да, мы подняли уровень знаний. И в первые годы даже были жалобы на преподавателей со стороны студентов, что они говорят о том, что студентам уже известно…
— Однако, говорят, есть другая беда — вопросы поданы так, что без репетитора невозможно поступить?
— Нет превышения программы средней школы, мы провели много «круглых столов», обсуждая содержание тестов. К тому же все задания опубликованы, и в нашем университетском киоске можно свободно купить сборники тестов каждый год. То есть добросовестному ученику вполне возможно подготовиться самому. Но ведь родители хотят уверенности, чтобы ребенок знал как можно лучше, поэтому ищут репетитора. Репетиторство было, есть и, по-видимому, будет. Это форма сотрудничества ученика и учителя. Если ученику нужен репетитор, этот вопрос не ко мне.
Однако сегодня, после 12-летнего опыта, скажу, что у тестов есть другой недостаток — они не дают возможности определить, способен ли потом человек к выполнению той или иной работы, может ли он посвятить себя делу — научному, преподавательскому, сможет ли выполнить свою задачу перед обществом. А нужно исследовать и эти вопросы.
— Хорошо. Вы отберете самых талантливых студентов, а потом они изо всех сил рвутся работать за границей.
— Во-первых, не все рвутся, и перекрывать границы тоже не выход. Мы наконец получили открытое общество и должны ценить это. Например, к нам в университет ежегодно приезжают более 800 иностранных специалистов и студентов, столько же наших студентов и преподавателей едут за рубеж на стажировку, учебу, конференции и тому подобное. Несколько лет назад на встрече с Президентом Украины я предложил сознательнее и активнее посылать молодых людей на учебу за рубеж, — и услышал в ответ: но они ведь не вернутся… Да, часть останется там, а часть все-таки вернется. Но та часть, которая вернется, опыт других стран перенесет к нам. Сейчас у нас имеется более 50 соглашений о сотрудничестве с университетами других стран, и мы не боимся, потому что пытаемся заинтересовать серьезной исследовательской работой здесь, создать такой климат, в котором комфортно развиваться.
Что сейчас можно было бы сделать на государственном уровне? — дать очень высокие стартовые возможности молодым ученым, чтобы они избавились от лишних, обременительных бытовых проблем и воспитаны были бы в потребности собственного интеллектуального и духовного роста. Конечно, таких людей очень сложно, а с другой стороны, очень просто отобрать. Сложно в том смысле, что для этого, возможно, стоит создать либо региональные структуры, либо целую сеть, где объединялись бы усилия людей с высоким моральным авторитетом, ученых, у которых в активе имеются не просто должности, звания и награды, а высокая наука. И эти нравственные авторитеты должны были бы определять, кому давать стипендию. Все же всех знают, — кто способный, а кто так себе, кому стоит оказать поддержку, а кому нет. Это должно быть хорошо продуманная акция, которая должна получить основательную государственную поддержку.
На мой взгляд, есть еще одна проблема — сейчас ученые степени присуждают почти административно. К сожалению, это очень распространенное явление. Человек занимается деятельностью, далекой от науки, и вдруг получает все звания, которые существуют в природе. Кто- то должен остановить этот процесс. Нужно, чтобы общественность сказала: ты же не ученый! И соответствующие структуры, которые присваивают звания, должны это контролировать. А если ВАК потеряла все ориентиры, то дайте каждому университету право присваивать звания или выполняйте свои обязанности, как полагается. Ученому, для которого наука — святое, это чрезвычайно ранит душу.
Научная степень стала словно обязательным дополнением к должности. Почти все руководители различных администраций, даже районного уровня, имеют научные степени. Такое впечатление, что центр научных поисков сдвинулся в государственные администрации. Оказывается, именно там создают науку, а не в университетах. А молодых людей это не деморализует!? Как их воспитывать на этом фоне? Мы свели образование на маргинес. Это преступное явление.
— А как вы оцениваете шансы сельского одаренного ребенка по сравнению с городским?
— Приблизительно 40 процентов наших студентов — выпускники сельских школ. У нас есть специальная программа под названием «Одаренные дети села», действующая уже более десяти лет. Суть этой программы — отобрать способных абитуриентов из села через предварительное тестирование, дающее возможность сельским школьникам соревноваться только между собой. Разумеется, они могут сдавать вступительные экзамены и летом.
— Это дети, которых специально рекомендуют?
— Нет, кто угодно. Они приезжают по объявлению в газете. Нужно иметь только справку о том, что ребенок заканчивает сельскую школу. Особенность в том, что в начале такие абитуриенты конкурируют между собой, а потом уже «выживают» рядом с детьми из городских школ. И знаете, что интересно? Впоследствии они своим трудолюбием доказывают, что имели право на поступление, и даже опережают в своих знаниях студентов городских. На третьем курсе все становится на место.
— Вы столько энергии отдаете университету. А говорят, что когда сами были студентом, то на спор на скорость брали интегралы. Как-то даже за это вас на плечах несли из общежития в библиотеку… И вам не жаль тратить себя сегодня не на чистую науку?
— Эвристические моменты бывают не каждую минуту. Но я написал несколько книг, без соавторов. Сейчас выйдет второе издание «Квантовой механики», пишу статьи. Организовал «Журнал физических исследований». Это такой профессиональный, современный журнал, который признало Европейское физическое общество. Он выходит на двух языках — украинском и английском, и это свидетельствует, что наука у нас таки есть. Знаете, я не оправдываюсь, ко мне просто пришло понимание своей нужности, что я таки делаю что-то полезное, и это также добавляет сил.
Я являюсь главным редактором научно-популярного журнала для детей и учителей «Мир физики». Мне приятно, что имеется возможность издавать эти журналы. А еще наш университет издает журналы «Математические студии», «Просцениум» и стал соучредителем журнала «Урок украинского». Наша концепция: либо издавать свои журналы всеукраинского уровня, либо стать их соучредителями с другими университетами или академическими структурами.
Я ценю каждую минуту, и это не банальные слова. В любых обстоятельствах — в самолете, президиуме, в автомобиле или дома — я пишу формулы. У меня есть, на мой взгляд, интересный труд о проблеме двух культур, в своей основе он дает объяснение, почему мир разделен на две культуры — интуитивно-образного и логически-эвристического мышления. Правда, объяснение на почве квантово-механических принципов. Я задекларировал эту идею на Львовско-Варшавском семинаре «Философия науки» (прошел уже четвертый семинар, с украинской стороны руковожу семинарами я, а с польской — известный профессор Яцек Ядацкий). Так вот, мой доклад носил название «Кошка Шредингера и проблема двух культур». Эрвин Шредингер — это один из авторов квантовой механики, описывающей микромир. Квантовая механика — это очень необычная наука для здравого смысла, и там много парадоксов. Один из парадоксов, выдуманный Шредингером, — согласно принципу квантовой механики — каждая микрочастица может находиться одновременно в нескольких состояниях, и кошка может одновременно быть и живой, и мертвой. Как я говорю, живомертвая кошка. Таким образом, есть исключительные личности, которые могут одновременно в двух состояниях реализовать себя, — как люди с логическим мышлением и образно-интуитивным. Только при этом условии рождается что-то гениальное… Так действует и постмодернистский принцип: нет философии «или — или», а есть философия «и — и»; нет культуры Запада, которая лучше, чем культура Востока, а есть принцип: и Запад, и Восток творят культуры, которые интерферируют, создавая нечто совсем новое.
— Что это дает человечеству?
— Это просто интересно. Я думаю, что человечеством движет только одно слово — интересно…