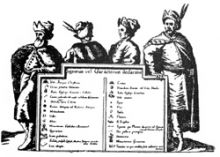Тема образов «другого», широко популяризованная усилиями классиков антропологии, не избежала и «галактики истории» (Питер Берк). Исследования, проведенные по этому специфическому предмету, в последнее время становятся заметными и в украинской историографии, причем интерес «публики» к ним довольно высок (в качестве примера можно вспомнить работу Д. Наливайко «Глазами Запада», за которую автор получил Шевченковскую премию). Итак, рискнув столкнуться с обвинениями в потакании популярным (попсовым?) вкусам, предложу небольшой доклад об одной из примечательных тем польского литературного анекдота конца XVI — первой половины XVII в. — высмеивании соседа (причем сосредоточимся только на образе соседа-русина).
Эта тема «вечная» для творцов фольклора и литературы всех времен и народов. Стоит остановиться на том, почему рассмотренные здесь литературные памятники обозначены именно как «польский», а не «речпосполитский» анекдот. Дело в том, что политкорректность никогда не была сильной стороной анекдота, и линии разломов и различий он всегда любил больше, чем линии единения и общности.
Кроме того, произведения, попавшие в поле нашего внимания, написаны (или сфабрикованы) почти исключительно в Кракове и вообще имеют яркие признаки «столичной» литературы. Таким образом, представленная здесь оппозиция «Польша — Русь» изначально сильно окрашена оппозицией «центр — провинция». Хорошо известно также, что вопрос ассимиляции (гомогенизации) всего населения государства для столичного жителя традиционно привлекателен (ведь он в этом случае выступает «образцом»). Итак, можно говорить, что признаки шовинизма «по определению» присущи предложенным здесь произведениям.
Для анекдота «национальное» отличие поляка от русина — это собственно аксиома. Ведь уже среди фрашок 1615 г. встречаем и озаглавленную «Разница наций с их свойствами», которая специально останавливается на «Русинах». Их ведущей «национальной чертой», которая всячески высмеивается, названо пристрастие к воровству («усі замисли його/ не чинити нічого доброго/ коли найліпше постить/ пильнуй у таборі гостей/ всі молитви свої/ вложив на коні твої») и пренебрежение к праву («сам присяга, а краде»). Замечу, что в середине ХVII в. бытовала шутка, что даже термин «Русь» происходит от слова «рухати» в толковании «приделать к чему-то ноги» (воровать). Таким образом, поляку автором фрашки дается совет постоянно присматривать за своим добром, когда рядом русин.
«Хитрость» — то понятие, которое конкурирует с «умом». И русин для поляка является настоящим специалистом в сфере иррационального и тайного. Он знает язык животных и часто окружен прирученными дикими зверями (кажется, особенно поражают воображение столичного поляка ручные медведи). На восприятие таких умений, как оккультных, указывает частое изображение в образе человека, окруженного ручными дикими зверями, русского попа или уж совсем прозрачно — пустынника-чудотворца («taumaturgus») русинов-Наливайко.
Совершенно оккультную силу русину дает и знание «русского» письма (причем здесь есть указания не только на церковнославянщину, но и, по крайней мере, еще на греческий язык). «Русские книги» («которые, говорят, ангелы писали») в анекдоте — это всегда источники удивительных и опасных тайн (как, например, в случае с унией «Руси с Ляхи», там хранится неопровержимая истина зряшности этого дела, ведь «никогда того не позволяет, чтобы те два народа были между собой согласны»).
Очень интересно упоминание, что в мифологическом сознании (пространстве анекдота) и «географически» Русь непосредственно граничит с «Новым светом» (похоже, это модерновое название для фольклорного «Индейского царства»; впрочем, напомню, что «Индиями» для европейца была и Америка). В анекдоте «Дорога на Новый Свет» последним известным рассказчику пунктом дороги является «Погребище на Руси».
Среди политических проблем, связанных с Русью, анекдот часто касался вопроса церковной унии, интересовался различением между «своим» Русином и «чужим» Московитом-Москалем, а также со смешанными чувствами восхищения и страха наблюдал за распространением украинской казатчины.
В «униатской теме» анекдотической литературы конца ХVI — первой половины XVII в. специфическим моментом выступает недооценка значения унии как ответа на собственно русинские запросы. Русины-униаты — впрочем, как и лояльные православные — часто подаются как некое новое оружие Контрреформации, ее свежий резерв, готовый броситься в бой на протестантов и привести к их окончательному поражению. Следует отметить, что записывание всех противников унии в «Наливайки» (казаки-преступники) имело в долговременной перспективе довольно неприятные последствия — вожди Казацкой революции могли поблагодарить создателей польских анекдотов за добросовестный труд по сплочению русинов вокруг казатчины.
Тема различения между Русинами (белорусами и украинцами) и Московитами (россиянами) представлена, в частности, анекдотом «Мудрая Русь» (сборник 1650 г.), где ответ о существовании Руси «двоякой» — Московской и Подольской, или Украины, трактуется как проявление известной уже «русской хитрости»; более убедительно подана версия, что Русь нужно определять по государственной принадлежности (Московская, Валашская — в прошлом Татарская, и тому подобное). Впрочем, подводит итог анекдот, имея дело с любым русином, нужно «держать камень за пазухой» из-за непостоянного нрава этого народа.
Не исключено, что это упорство уже навеяно реалиями Казацкой революции, когда с казаками дело обстояло «сейчас так собственно, яко и с чертями» (хотя в сборнике есть только один бесспорно касающийся Хмельнитчины анекдот — о муках еврейского пленника из-за необходимости есть свинину в крымском плену; сюжет, согласитесь, не слишком антиказацкий). Упомянутый выше обзор-характеристика наций 1614 г. к русинам значительно снисходительнее, чем к московитам (которые поляку ни в чем не ровня), а послание Сеньки Наливайко хоть и упоминает, что «тяжело нам и с Ляхами, а хуже с Униатами», но пугает протестантов именно русскими ужасами (обещает послать «в Москву на науку», отмечает, что «искупавшись в Неглинной, забудешь жаловаться» и «отречешься Лютора и беса самого/ Побывав у Царя тюрем Московского»). Между прочим, интересно, что стереотип Московита не распространяется в анекдоте на донских казаков, которые являются частью пусть и наиболее отдаленной «своего» пространства и упоминания о которых окрашены довольно положительно (см. разные послания к «казакам донским» из сборника около 1645 г.).
Образ же украинского казака — один из самых любимых для создателей польского анекдота. Черпать вдохновение из казацкого источника ездит сам мифологический вождь-создатель анекдотической традиции — Совирзал. Рождаются пародийные «думы». «Казак» вообще начинает замещать «Русина» в анекдотах (см. введение — «один Русин, а скорее Казак…»). Анекдотический образ казака даже приобретает признаки персонализации (типичные имена) — Плахта, Муха и др.
Голый-босый, но свободный и за словом в карман не лезет; суровый к врагу, но преданный друг; дитя природы без «царя в голове», враждебный к чуждой казачеству иерархии — таким преимущественно рисует казака польский анекдот. Впрочем, казацкий мир воспринимается также близко к миру детско-подростковому, в котором можно погостить, но невозможно жить постоянно. Угроза юношеского радикализма для родительского общества анекдотом признается, но легкомысленно (ведь всегда можно найти для своих буйных голов врага за границей).
Интересным дополнением к образу Русинов в польском анекдоте является сказание об их псевдотиповых заграничных впечатлениях. О них говорится в анекдоте «Non est vita, ubi non est nostra dieta» («Нет жизни, где нет нашего образа жизни», сборник 1650 г.), где рассказывается о «русине, а скорее казаке», который побывал в Италии (образцовой тогда европейской стране), где ему совершенно не понравилось. Как он высказался: «едят траву как бараны/ ходят в плащах как цыгане/ и свиниорами зовут господ». Единственным приятным впечатлением от итальянцев для него стало то, что они «хлеб называют Паном».
Уже отмеченное выше пренебрежение столичного (городского) мира к русину как провинциалу-деревенщине находим в анекдоте «Позорный столб Львовский» (сборник 1614 г.), где дебоширы студенты («жаки») выдают приезжим селянам-русинам позорный столб за место поклонения апостолам Петру и Павлу и впоследствии присваивают жертвы-дары, принесенные введенной в заблуждение «Русью посполитой».
Таким образом, образ Руси и Русинов в польском анекдоте конца ХVI — середины XVII в. отличается определенной многоаспектностью, хотя отрицательные черты здесь безусловно преобладают. Впрочем, интересно, что анекдот никогда не сомневается в том, что русины — это отдельная «нация», признает ее специфические таланты и отличную от польской культурную традицию. Интеграция последней в общеречьпосполитское духовное пространство заметна в более позитивно окрашенном образе казака, который теснит русина в позднейших анекдотах, но диспаритетность такой интеграции (казаки-дети, несовершеннолетние и неполноправные в обществе) делала перспективы такой интеграции довольно призрачными.